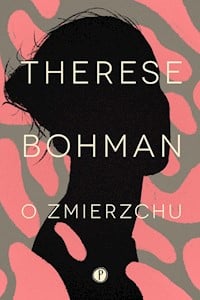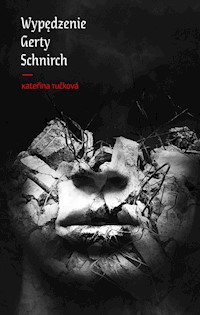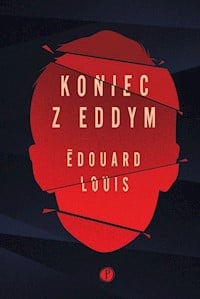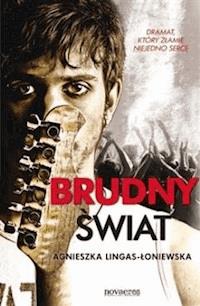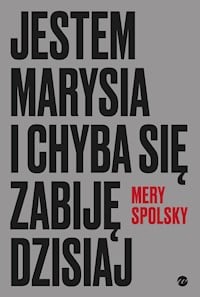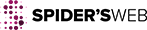13,90 zł
Dowiedz się więcej.
- Wydawca: КСД
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna•Literatura piękna
- Język: rosyjski
Эмму Бовари, молодую и весьма привлекательную жену лекаря, тяготит семейная жизнь. Даже рождение дочери не пробудило в ней теплых чувств к мужу. Эмма грезит о любви, которую описывают в романах, о безрассудной страсти. Она стремится к чувственным наслаждениям, и встреча с юным помощником нотариуса Леоном Дюпюи еще больше распаляет в ней стремление к внебрачным связям. Но что может дать ей неопытный юнец? Любовником Эммы становится зрелый красавец Рудольф Буланже, известный сердцеед. С ним она познаёт мир запретных удовольствий, цена которых окажется слишком высокой…
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi lub dowolnej aplikacji obsługującej format:
Liczba stron: 494
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2019
ISBN 978-617-12-6155-6 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
Печатается по изданию:
Флобер Г. Госпожа Бовари : роман /пер. с фр. А. Чеботаревской. — СПб. : Азбука, 2011
Дизайнер обложкиВладлен Трубчанинов
В оформлении издания использована картинаКонстантина Сомова«Дама в голубом»
Электронная версия создана по изданию:
Емму Боварі, молоду вродливу дружину лікаря, пригнічує сімейне життя. Навіть народження дочки не пробудило в ній теплих почуттів до чоловіка. Емма мріє про кохання, яке описують у романах, про шалену пристрасть. Її ваблять чуттєві задоволення, і зустріч з юним помічником нотаріуса Леоном Дюпюї ще більше розпалює в ній прагнення до позашлюбних відносин. Але що може дати їй недосвідчений юнак? Коханцем Емми стає зрілий красень Рудольф Буланже, відомий серцеїд. З ним вона пізнає світ заборонених утіх, ціна яких виявиться занадто високою…
Флобер Г.
Ф73 Госпожа Бовари : роман/ Гюстав Флобер ; пер. с фр. А. Чеботаревской. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. — 432 с. — (Серия «Шедевры мировой классики», ISBN 978-617-12-4211-1).
ISBN 978-617-12-5896-9
Эмму Бовари, молодую и весьма привлекательную жену лекаря, тяготит семейная жизнь. Даже рождение дочери не пробудило в ней теплых чувств к мужу. Эмма грезит о любви, которую описывают в романах, о безрассудной страсти. Она стремится к чувственным наслаждениям, и встреча с юным помощником нотариуса Леоном Дюпюи еще больше распаляет в ней стремление к внебрачным связям. Но что может дать ей неопытный юнец? Любовником Эммы становится зрелый красавец Рудольф Буланже, известный сердцеед. С ним она познает мир запретных удовольствий, цена которых окажется слишком высокой…
УДК 821.133.1
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2019
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2019
Творчество Г. Флобера.В стремлении к объективному идеалу
Густав Флобер родился в 1821 году в Руане, умер в 1880-м. Отецего, известный врач, заведовал хирургическим отделением в руанском госпитале. Матьбыла родом из старинной нормандской семьи, и от нее Флоберунаследовал плотную коренастую фигуру и крупные черты лица. Он родилсяв госпитале и жил там, в квартире отца, до 18лет.
С детства будущий писатель испытывал особое влечение к зрелищам болезнии смерти, к сильным и мрачным ощущениям: еще будучи совсемребенком, он тайком бегал в зал для вскрытия и сосредоточенноразглядывал там мертвые тела. Юношей он привлекал внимание сумасшедших иидиотов, мог часами наблюдать за больными, как бы готовясь кзанимавшему его впоследствии изучению нравственного уродства людей, «гангрены жизни». Еговсегда влекло к таинственному, ужасному и уродливому.
В 1840 годуФлобер отправился в Париж изучать право, хотя и не чувствовалособого призвания к юридическим наукам. Там он жил довольно уединенно,избегая общества товарищей и посещая лишь нескольких художников, в томчисле скульптора Ж.-Ж. Прадье, у которого познакомился с Виктором Гюгои писательницей Луизой Коле. Занятия в Париже были прерваны в1845 году, когда умер отец, а вскоре после этого илюбимая сестра будущего писателя Каролина. Ради матери, которая очень страдалаот одиночества, он легко решился оставить Париж, которого не любил,и занятия правом, мало его интересовавшие.
Флобер поселился с матерьюв Круассе, близ Руана, в своем маленьком живописном поместье, ипрожил там до самой смерти, ведя уединенный образ жизни итрудясь без устали. За всю свою жизнь он совершил толькодва продолжительных путешествия: одно — по Бретани в 1846 году,другое — на Восток в 1849-м, оба раза в сопровождении своегодруга Максима Дюкана. Иногда он приезжал в Париж. С 1846года Флобер предался исключительно литературе, много читал, обдумывал будущие произведения,занимался подготовительной работой, делясь своими планами и мыслями с друзьями.К этому же времени относится начало его романа с ЛуизойКоле. Это была его единственная серьезная привязанность, длившаяся восемь лет,с промежутками, временными разрывами и примирениями. В 1849 году онобъездил Египет, Сирию, Палестину, Грецию. Особенно сильное впечатление, как этовидно из его собственных описаний в письмах к друзьям, произвелина него пирамиды и сфинкс.
В Круассе писатель проводил целые днив работе, в Париже навещал друзей: Жорж Санд, Жюля Сандо,Теофиля Готье, братьев Гонкуров, Альфонса Доде, Эмиля Золя, бывал назнаменитых «обедах Майни», где встречался с И. Тэном, Э. Ренаном,И. Тургеневым, увлеченно беседовал о литературе и искусстве и весьмарезко высказывался о буржуазном обществе.
Роман Флобера «Госпожа Бовари» был напечатанв «Revue de Paris» в 1856 году. Против писателя былвозбужден судебный процесс — его обвинили в оскорблении общественной нравственности.Впрочем, после жарких прений в зале суда он был оправдан.
В1862 году вышел в свет исторический роман Флобера «Саламбо», в1869 — роман нравов «Воспитание чувств», в 1874 — «ИскушениеСвятого Антония», в 1877 — «Три повести». После этого писательс головой погрузился в работу над давно задуманным, любимым своимпроизведением, романом «Бувар и Пекуше», но завершить его не успел:из предполагаемых двух томов он написал только один, да итому не присуща завершенность других его произведений.
Конец жизни писателя былпечальным. Он страдал тяжелымнервным недугом, был мрачен и раздражителен,разорвалотношения с лучшим другом Максимом Дюканом. Мать его умерла,материальное положение ухудшилось, так как значительную часть своего состояния онуступил бедным родственникам. Полного одиночества в старости Флоберу удалось избежатьлишь благодаря нежным заботам его племянницы, мадам Комманвиль, а такжедружбе с Жорж Санд. Большим утешением для него было иобщение с Ги де Мопассаном, сыном одной из подруг егодетства. Флобер заботился о развитии молодого таланта и был дляначинающего писателя строгим и внимательным учителем. Болезнь и тяжелый литературныйтруд рано истощили силы Флобера — в 1880 году онумер от апоплексического удара. Через 10 лет в Руане емубыл поставлен памятник работы известного скульптора Шапю.
Литература была исключительныминтересом Флобера. Всякую общественную и политическую деятельность он презирал, считаяпроявлением буржуазности, что для него было синонимом глупости. Жизнь привлекалаего только как поле для наблюдений, материал для литературного творчества,имевшего для него самостоятельную ценность, никак не связанную с проповедованиемкаких-либо идей и попытками прояснить смысл жизни. «Идейная направленность» егопроизведений сводилась к обличению тупости ненавистных ему буржуа, без попытокпредложить какую-либо альтернативу, создать некий положительный идеал.
Флобер — гениальныйреалист, щедро наделенный от природы наблюдательностью, способностью докапываться до глубокоскрытых психологических мотивов поступков людей. Яркость его таланта еще усиливалглубокий пессимизм, доходящий до мизантропии и странного, болезненного влечения ксозерцанию тягостных, уродливых зрелищ, по его собственным словам, «гангрены жизни».Именно потому, что его раздражала и возмущала тупость людей, онпостоянно искал повсюду ее проявления, тщательно запоминал свои наблюдения ис особым наслаждением живописал в своих романах.
С природным реалистическим даромписателя связана и его эстетическая теория. Флобер был проповедником безличного,объективного искусства. Художник, по его убеждению, должен скрываться за своимпроизведением, не выдавать своих личных чувств, избегать лиризма, перевоплощаясь каждыйраз в воссоздаваемых им людей. Эта теория была отражением глубиннойнатуры Флобера, который отличался скрытностью, замкнутостью и не терпел вмешательствав тайники своих чувств. Он расходился с лучшими друзьями, замечаяв них желание влиять на его психологию. Идеал объективного творчестваи есть реализм Флобера, воссоздающий действительность во всей ее непригляднойправде, анализирующий уродство жизни без ее осуждения во имя отвлеченнойсвятыни, без проповеди высокой нравственности.
Реализм Флобера часто приближается к сатире,с тем отличием, что сатирик во имя проповедуемой им моралинепременно преувеличивает какие-нибудь черты действительности, Флобер же — строгий историкдействительности. Он никого не осуждает, не делит людей на добродетельныхи дурных, а лишь пытается прояснить сложность мотивов, создающих… незло, а скорее бессилие и уродство жизни. Флобер считает людейне порочными, а скорее глупыми и жалкими. Творчество писателя неисчерпывается, однако, реализмом. Влечение Флоберако всему фантастическому, таинственному, мрачному,егострастное увлечение Востоком, любовь к ярким краскам, к резкимконтрастам — все это наследие романтизма делает его, родоначальника натуралистическогоромана, прямым преемником Шатобриана. Флобер — романтик без присущего романтикамстремления уйти от действительности в мир фантазии и прекрасных грез.В этом сочетании романтизма и реализма Флобера соединяются два периодаевропейской литературы: восприняв многие из существенных черт предшествовавшей ему романтическойэпохи, он своим сосредоточенным проникновением в действительность положил начало реалистическомудвижению второй половины XIX века.
Среди романов Флобера, немногочисленных, нозаключающих в себе неисчерпаемые сокровища наблюдений и обобщений, на первомместе по праву стоит его первое произведение —«Госпожа Бовари»,реалистический роман нравов. В образе своей героини Флобер представил романтическуюнатуру в столкновении с действительностью. Все падения Эммы Бовари —производные от ее мечтательности и праздности. Все, что ее окружает,ничтожно, жизнь ее исполнена мелких будничных интересов, и сама онане возвышается духовно над своей средой. В лице ее, каки в остальных типах романа, Флобер воплотил буржуазную мелочность жизни,но Эмма облагорожена стремлением испытать более высокие порывы, хотя исведеннымк жалким амурным приключениям.
Мадам Бовари — в значительнойстепени сатира на человеческую пошлость вообще и на женскую вчастности. Вместе с тем в ней сильно подчеркнуто природное благородствоэстетической натуры, для которой вся жизнь — вечное оскорбление ееожиданий, ее святынь. Она не куртизанка по природе: на границеполного нравственного падения она останавливается и предпочитает смерть.
Сила романа —не в его идейном содержании, а в несравненном по глубинеи точности воссоздании жизни, человеческих характеров и типов. Флобер создалцелую галерею портретов, тем более художественных, что они изображают людеймелких, незаметных, но имеющих каждый определенную индивидуальность, несмотря на общеедля них всех ничтожество. Поразительны также бытописательная сторона романа, зарисовкипровинциальной жизни, картины природы, не составляющиеотдельных вставок, а органическисливающиеся с жизньюи чувствами действующих лиц.
Вслед за «ГоспожойБовари» появился «Саламбо» — фантастически-исторический роман (вся серия романов Флоберасостоит из последовательного чередования реалистических и романтических произведений), который, несмотряна чрезмерные длинноты и однообразие в воссоздании хода битв, остаетсяклассическим произведением французской литературы по совершенству стиля, яркости красок, красотеописаний. После «Саламбо» Флобер вернулся к реализму в «Воспитании чувств»— истории ничтожного, пассивного от природы буржуа, прошедшего «школу сердечногоопыта». Герой этого романа — полное ничтожество, более полное, чемЭмма Бовари, потому что он не судит себя, не останавливаетсяна краю пропасти, а живет до конца спокойной растительной жизнью.
В «Искушении святого Антония» Флобер опять увлекся романтическим замыслом ипредставил искушения ума и фантазии, манящие человека к действию, кактивной жизни. В его святом Антонии есть нечто общее сФаустом. Конец «искушения» — католический: святой Антоний сразу, под влияниемблагодати, прозревает; иллюзия рассеивается, он остается один в молитвенном экстазе.В картинах «искушения» Флобер, в силу своейприродной мизантропии, останавливаетсягораздо более науродливых и отталкивающих зрелищах жизни, чем накрасотах, и вся эта поэма в прозе отмечена глубоким пессимизмом.
Последний, неоконченный роман Флобера, «Бувар и Пекюше» — реалистический, живописующийглупость буржуа, проходящих «школу интеллектуального опыта». Это как бы резюмевсех современных ему знаний, рассмотренных сквозь призму буржуазной ограниченности. Главноедостоинство Флобера, помимо никем не превзойденного умения воссоздавать жизнь вовсей ее полноте и сложности, заключается в его художественном слоге.Для него писательская техника имела первостепенное значение. Он был мученикомслова, работал до умопомрачения над каждой фразой, поэтому каждая страницалюбого из его романов являет собой классический образчик французской прозы.Братья Гонкуры, Золя, Доде — непосредственные ученики Флобера, который оказалогромное влияние на все последующее развитие литературы.
Зинаида Венгерова
Часть первая
I
Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении «новичка», одетого в городское платье, и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал,проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы.
Директор подал нам знак сесть; потом, обращаясь к классному наставнику, сказал вполголоса:
— Господин Роже, рекомендую вам нового ученика; он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту.
Стоявший в углу, за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет пятнадцати, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника; лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна, с черными пуговицами, должно быть, резала в проймах; а из обшлагов высовывались красные руки, не знавшие, очевидно,перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны.Обут он был в грубые башмаки, подбитые гвоздямии плохо вычищенные.
Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол, и в два часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды.
У нас был обычай — при входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки; нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно о стену и подняв при этом как можно больше пыли: это считалось у нас «шиком».
Не заметил ли новичок этой проделки или же не посмел принять в ней участие — но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. То был сложный, в смешанном стиле, головной убор, в котором можно было различить составные части и меховой шапки, и кивера, и круглой шляпы, и котикового картуза, и ночного колпака, — словом, один из тех убогих предметов, немое безобразие которых глубоко выразительно, как физиономия дурака. Яйцевидной формыи натянутый на китовый ус, этот головной убор покоился на трех концентрических колбасах; затем, отделенные красной полосой, чередовались ромбы из бархата и кроличьего меха; далее следовал род мешка, кончавшийсямногоугольником, подбитым картонкой и покрытым сложною вышивкой из сутажа, а с него на длинном, тонком шнурке свисала маленькая кисточка из позумента в виде желудя. Фуражка была новенькая, козырек блестел.
— Встаньте, — сказал учитель.
Он встал, фуражка упала. Весь класс захохотал.
Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб ее у него из рук; он поднял ее снова.
— Да расстаньтесь же с вашей каской, — сказал учитель, большой остряк.
Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой: оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени.
— Встаньте, — сказал учитель, — и скажите мне, как ваша фамилия.
Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя.
— Повторите!
Послышалось то же бормотание слогов, заглушаемое гиканьем всего класса.
— Громче! — крикнул учитель. — Громче!
Тогда новичок с последнею решимостью раскрыл непомерно рот и всею грудью гаркнул, словно кого-то звал: «Шарбовари»!
Сразу поднялся шум, усилился в оглушительный гам со взрывами пронзительных выкриков (ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя: «Шарбовари! Шарбовари!»); потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо потушенная шутиха, вспыхивал подавляемый хохот.
Однако под градом штрафных задач порядок в классе мало-помалу восстановился; и учитель, наконец усвоив имя Шарля Бовари, — после того как он заставил егосебе продиктовать, называя букву за буквой, и произнести вслух, — приказал бедняге пойти и сесть на скамью лентяев, у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде, чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность.
— Чего вы ищете? — спросил учитель.
— Фураж… — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь.
— Пятьсот стихов всему классу! — Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно «Quosego», новую бурю. — Сидите же смирно! — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. — Что касается вас, новопоступивший, то вы напишете мне двадцать разridiculus sum, во всех временах. — Потом прибавил более мягко: — Фуражку свою вы найдете. Никто ее у вас не крал!
Все притихло. Головы склонились над тетрадями,и новичок сидел два часа образцово, несмотря на то что время от времени шарик жеваной бумаги, пущенный с кончика пера, летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза.
Вечером, в классной комнате, он вынул из пюпитра нарукавники, привел в порядок свои вещи, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно, отыскивает каждое слово в словаре, не жалеет труда. Без сомнения, благодаря этому проявленному им старанию он не был переведен в низший класс, чегоследовало бы ожидать, потому что хоть он и знал сносно правила, зато обороты его речи не отличались изяществом. Обучал его начаткам латыни сельский священникв той деревне, где он жил, так как родители, во избежание лишних расходов, желали отдать его в гимназию как можно позже.
Отец его, Шарль-Дени-Бартоломэ Бовари, отставной военный фельдшер, заподозренный в 1812 году во взяточничестве при рекрутском наборе и принужденный около этого времени покинуть службу, воспользовался своею привлекательною наружностью, чтобы подцепить на пути, при перемене карьеры, шестидесятитысячное приданое, представившееся ему в лице дочери шляпного торговца, которая влюбилась по уши в молодцеватого военного. Видный собою, хвастун и враль, он звонко позвякивал шпорами, носил бакенбарды, сливающиеся с усами, унизывал пальцы перстнями, предпочитал в туалете яркие цвета и соединял осанку храбреца с развязностью коммивояжера. Женившись, он прожил два-три года на средства жены, кушая вкусно, вставая поздно,куря из длинных фарфоровых трубок, проводя вечерав театре, шатаясь по кафе. Тесть умер, оставив после себя весьма немного. Он пришел в негодование, пустился в промышленность, потерял деньги, потом удалился в деревню, где решил сам хозяйничать. Но так как он смыслил в сельском хозяйстве столько же, сколько в ситцах, ездил верхом на лошадях, вместо того чтобы посылать их в работу, выпивал свой сидр бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, съедал лучшую живность с собственного птичьего двора и смазывал охотничьи сапоги салом собственных свиней, то вскоре увидел, что ему лучше бросить всякую надежду на доходы.
За двести франков в год нанял он в одной деревне на границе Пикардии и Ко полуферму-полуусадьбу. Огорченный, тревожимый поздними сожалениями, обвиняя небо и завидуя всем и каждому, в сорок пять лет он замкнулся, набив себе оскомину от людей, как говорил он сам, и решив жить на покое.
Жена его когда-то была от него без ума и доказывала это в тысяче проявлений рабской покорности, которая его еще более от нее отвратила. Некогда веселая, общительная, любящая, она стала под старость (как откупоренное вино, которое превращается в уксус) сварливою, визгливою, раздражительною. Сколько выстрадала она безропотно, когда видела его бегающим за каждою деревенской юбкой или когда eгo привозили к ней по вечерам из всевозможных притонов, пресыщенного и пьяного!
В ней заговорила гордость. Она замолкла, глотая свою злобу с немым стоицизмом, который сохранила до самой смерти. Она была непрерывно в бегах, в хлопотах. Ходила к адвокатам, к председателю, помнила сроки векселей, вымаливала отсрочки; а дома целые дни гладила, шила, стирала, присматривала за рабочими, платила по счетам, меж тем как барин, ни о чем не хлопоча, погруженный в ворчливую дремоту, от которой пробуждался, только чтобы говорить ей неприятности, курил трубку у камина и плевал в золу.
Когда у нее родился ребенок, пришлось отдать его кормилице. Получив малыша обратно, мать стала баловать его как принца. Она закармливала его сластями, а отец заставлял бегать босиком и, разыгрывая философа, говорил, что он мог бы ходить и совсем голый, как детеныши зверей. Наперекор стремлениям матери он лелеял в своей голове некий идеал мужественного воспитания, согласно которому и старался возрастить сына, требуя применения спартанской суровости, дающей телу должный закал. Он клал мальчика спать в нетопленой комнате, учил его пить залпом ром и высмеивать крестные ходы. Но, от природы смирный, тот туго поддавался отцовским усилиям. Мать постоянно таскала его за собой, вырезала ему фигурки из бумаги, рассказывала сказки, изливалась перед ним в нескончаемых монологах, полных меланхолической веселости и болтливой ласки. В своем одиночестве она перенесла на ребенка все свое обманутое тщеславие и разбитые надежды. Она мечтала о его будущем высоком положении и видела его уже взрослым, красивым, остроумным, служащим в министерстве путей сообщения или в судебном ведомстве. Выучила его читать, писать и даже — под аккомпанемент старого рояля, который у нее был, — петь два-три романса. В ответ на это господин Бовари, нисколько не увлекавшийся словесностью, говорил, что все это «потерянный труд». Разве у них когда-нибудь хватит средств воспитать сына в казенном учебном заведении и купить ему должность или торговое дело? К тому же «бойкий человек всегда пробьется в жизни». Госпожа Бовари кусала губы, а ребенок бродяжничал по деревне.
Он ходил за землепашцами и комьями земли гонял ворон, собирал по канавам ежевику, стерег с хворостиной в руке индюшек, ворошил на лугу сено, бегал по лесу, прыгал на одной ноге с товарищами по плитам церковной паперти в дождливые дни, в праздники умолял пономаря о разрешении ударить в колокол, чтобы всем телом повиснуть на толстой веревке и «ощутить», как она уносит тебя в пространство.
Зато он и вырос, как молодой дубок. У него были крепкие руки и здоровый румянец.
Когда ему минуло двенадцать лет, мать настояла на том,чтобы его отдали в учение. Образование его было поручено местному священнику. Но уроки были так мимолетны и случайны, что не могли принести большой пользы. Они давались урывками, в ризнице, на ходу, второпях между крестинами и похоронами; или же священник посылал за своим учеником, когда уже отзвонили «Angelus» и ему никуда не предстояло идти. Оба поднимались наверх, в комнату кюре, и усаживались. Мошки и ночные бабочки кружились вокруг свечи. Было жарко, ученик засыпал; да и сам наставник, сложив на животе руки, вскоре уже храпел с раскрытым ртом. Иной раз священник, возвращаясь из деревни, от больного при смерти, которого только что напутствовал, встречал Шарля, занятого какими-нибудь шалостями в поле, подзывал его к себе, отчитывал с четверть часа и пользовался случаем, чтобы заставить его тут же, под деревом, проспрягать глагол. Их прерывал дождь или проходящий мимо знакомец. Впрочем, учитель был доволен учеником и говорил даже, что у «молодого человека» хорошая память.
Воспитание Шарля не могло остановиться на этом. Госпожа Бовари оказалась настойчивой. Пристыженный или, скорее, утомленный ею, господин Бовари уступил без сопротивления; но было решено пропустить этот год, потому как мальчик готовился к первой исповеди.
Прошло еще шесть месяцев; и год спустя Шарль окончательно был отдан в Руанскую гимназию, куда отец повез его сам в конце октября, в пору Сен-Роменской ярмарки.
Трудно было бы теперь кому-нибудь из нас припомнить о нем что-либо особенное. Мальчик он был смирный, игравший в перемену между уроками, внимательно сидевший в классе, крепко спавший в дортуаре и плотно кушавший в столовой. У него был в городе знакомый — оптовый торговец железом на улице Гантри, который брал его в отпуск раз в месяц по воскресеньям; когда лавка запиралась, посылал его прогуляться в гавань поглазеть на корабли и в семь часов, к ужину, приводил обратно в гимназию. Каждый четверг, вечером, Шарльписал матери длинное письмо красными черниламии с тремя облатками. Окончив письмо, он повторял свои записки по истории или читал старый том «Анахарсиса», валявшийся в классной. На прогулках любил разговаривать со сторожем, человеком деревенским, как он сам.
Благодаря прилежанию он числился в посредственных учениках; однажды получил даже похвальный лист по естественной истории. Но по окончании третьего класса родители взяли его из гимназии, предназначая сына медицинской карьере и полагая, что степени бакалавра добьется он собственными силами.
Мать нашла ему комнату в пятом этаже, на Робекской набережной, у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, достала необходимую обстановку — стол и пару стульев, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и в довершение купила маленькую чугунную печку и запас дров, чтобы дитятко не мерзло. Потом через неделю уехала после многократных наставлений и увещаний вести себя хорошо, так как отныне он уже вполне предоставлен самому себе.
Расписание лекций, прочтенное на стенной афише, вызвало у Шарля нечто вроде головокружения: курс анатомии, патологии, физиологии, фармации, химии, ботаники, клиника, курс терапевтики, не считая гигиены и фармакологии, — все это были сплошь непонятные имена неведомого происхождения, которые представлялись ему входами во святилища, полные таинственного мрака.
Он ничего не понимал во всем этом, и сколько ни слушал, не схватывал ничего. А между тем работал, записывал лекции в переплетенные тетради, не пропускал ни одного курса, ни одного обхода. Он выполнял свой ежедневный труд как рабочая лошадь, которая должна кружиться в приводе с завязанными глазами, не зная, для какой надобности она топчется на месте.
Чтобы не вводить сына в ненужные расходы, мать каждую неделю доставляла ему с посыльным кусок жареной телятины. Вернувшись утром из больницы, он принимался за свой холодный завтрак, стуча о стену подошвами. Потом предстояло бежать на лекции, в анатомический театр, в госпиталь и возвращаться домой через весь город. Вечером, после скудного обеда у хозяина, он опять уходил наверх, в свою комнату, и принимался за работу, сидя перед накалившейся докрасна печкой, от жара которой дымилось на нем его промокшее платье.
В ясные летние вечера, когда теплые улицы пустеют, когда служанки играют в волан у дверей домов, он отворял окно и облокачивался на подоконник. Речка, превращающая этот квартал Руана в маленькую грязную Венецию, текла внизу, желтая, лиловая или синяя, между мостами и перилами. Рабочие, сидя на корточках на берегу, обмывали в воде руки до плеч. На шестах, торчавших с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. Прямо перед глазами, за крышами домов, сияло огромное чистое небо с заходящим красным солнцем. Как должно быть хорошо там, за домами! Какая свежесть под буками! И он раздувал ноздри, готовый вдохнуть запах полей, но запах не долетал…
Он похудел, вытянулся, и лицо его приняло жалобное выражение, от которого стало почти интересным.
Как-то само собою, по беспечности, мало-помалу случилось, что он почувствовал себя наконец свободным от всех принятых когда-то решений. Раз он пропустил обход, на другой день не пошел на лекцию и, войдя во вкус лени, перестал вовсе посещать курсы.
Он привык к трактиру, пристрастился к игре в домино. Сидеть по вечерам взаперти в душной, грязной зале заведения и стучать по мраморному столику бараньими костяшками с черными очками представлялось ему драгоценным доказательством независимости и возвышало его в собственных глазах. То было словно посвящение в светскую жизнь, доступ к запретным наслаждениям; и, входя, он брался за ручку двери с какою-то почти чувственною радостью. Тогда многое, что он подавлял в себе, вдруг вышло наружу; он заучил наизусть куплеты и распевал их первой встречной женщине, стал восторгаться Беранже, научился варить пунш и, наконец, познал любовь.
Благодаря этим подготовительным работам он провалился на лекарском экзамене. А в тот вечер его ждали дома, чтобы отпраздновать успешное окончание курса!
Он пустился в путь пешком, остановился на задворках деревни, вызвал мать и рассказал ей все. Она его простила, отнеся неудачу на счет несправедливости экзаменаторов, и несколько подбодрила его, взявшись все уладить. Только через пять лет Бовари-отец узнал правду, но за давностью она уже потеряла значение, и он примирился, уверенный во всяком случае, что человек, родившийся от него, не мог быть дураком.
Шарль снова засел за работу и на этот раз без перерыва подготовил все, что требовалось для испытания, заранее вызубрив наизусть все вопросы. И он прошел с удовлетворительною отметкой. Счастливый день для матери! Она устроила торжественный обед.
Где же предстояло ему применять свои знания? В Тосте. Там был всего один врач, и притом старик. Госпожа Бовари давно уже выжидала его смерти; и старичок еще не успел убраться, как Шарль поселился на противоположной стороне улицы в качестве его преемника.
Но воспитать сына, обучить его медицине и отыскать место для его врачебной практики было еще не все: нужно было его женить. Мать нашла ему подходящую супругу — вдову пристава из Дьеппа. Ей было сорок пять лет от роду, и она получала тысячу двести ливров годового дохода.
Хотя госпожа Дюбюк была некрасива, суха как щепка, и прыщей на лице у нее было столько, сколько у весны почек на деревьях, все же она могла быть разборчивой невестой. Чтобы достичь своей цели, Бовари-мать должна была устранить других женихов и даже довольно искусно разрушила происки одного колбасника, которого поддерживало духовенство.
Шарль ожидал от брака перемены своего положения к лучшему, воображал, что будет чувствовать себя более свободным и располагать как захочет своей особой и своими деньгами. Но он оказался под башмаком у жены: должен был на людях говорить об одном, молчать о другом, поститься по пятницам, одеваться по вкусу супруги и по ее приказу торопить пациентов, медливших заплатить по счету. Она распечатывала его письма, следила за его действиями, подслушивала в часы приема за перегородкой, когда он принимал в своем кабинете женщин.
Нужно было приносить ей утренний шоколад и ухаживать за ней с бесконечною бережностью. Она непрестанно жаловалась на нервы, на боль в груди, на общее дурное самочувствие. Звук шагов беспокоил ее; когда все уходили, ее тяготило одиночество; если к ней приближались, это было, разумеется, затем, чтобы смотреть, как она умирает. По вечерам, когда Шарль входил в спальню, она протягивала из-под одеяла свои длинные худые руки, охватывала его шею и, усадив его на край постели, принималась поверять ему свое горе: он забыл ее, он любит другую! Ей предсказывали, что она будет несчастна… И кончала просьбой дать ей ложку какого-нибудь снадобья и чуточку больше любви.
II
Однажды ночью, около одиннадцати часов, они были разбужены топотом лошадиных копыт перед их домом. Прислуга отворила слуховое окошко на чердаке и некоторое время переговаривалась с человеком, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором, с письмом. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отмыкать замок, отодвигать засовы. Приезжий оставил лошадь у крыльца и, идя вслед за служанкой, оказался позади нее в спальне. Из шерстяной шапки с серыми кисточками он достал письмо, завернутое в платок, и бережно подал его Шарлю, облокотившемуся о подушку, чтобы читать. Настази держала возле постели свечу. Барыня, из стыдливости, лежала, повернувшись лицом к стене и спиною к присутствующим.
Письмо, припечатанное синим сургучом, содержалопросьбу немедленно прибыть на ферму Берто, чтобы вправить сломанную ногу. От Тоста до Берто — добрых верст шесть проселком, через Лонгевиль и Сен-Виктор. Ночь была темная. Молодая Бовари опасалась, как бы с мужем чего не случилось. Было решено, что посланный поедет вперед, а Шарль тронется в путь тремя часами позднее, когда взойдет луна. Ему вышлют навстречу мальчика, который покажет дорогу на ферму и отопрет ворота.
Около четырех часов утра Шарль, плотно закутанный в плащ, выехал на ферму Берто. Еще не oчнувшись от теплой неги сна, он отдавался баюкающему покачиванию спокойной рыси. Когда лошадь останавливалась у обсаженных колючками ям, вырытых по краю межей, Шарль спросонья вздрагивал и, тотчас же вспомнив о сломанной ноге, перебирал усилием памяти все известные ему случаи переломов. Дождь прошел; занималась заря; на голых ветвях яблонь недвижно сидели птицы, топорща перышки под холодным утренним ветром. Плоские поля расстилались, покуда хватал глаз, а черно-лиловые купы деревьев вокруг ферм, разбросанные с широкими промежутками, пятналинеобъятную серую равнину, сливающуюся на горизонте с пасмурным небом. Порою Шарль открывал глаза, но вскоре мысль утомлялась, его одолевала дрема, он погружался в оцепенение полусна, где недавние впечатления смешивались с воспоминаниями и сам он двоился, представляясь себе одновременно и студентом, и женатым,то спящим на супружеской постели, как несколько минуттому назад, то шагающим, как некогда, по операционному залу. Горячий пар компрессов смешивался со свежим запахом росы; ему слышалось позвякивание железных колец у больничных кроватей и дыхание спящей жены… Подъехав к Вассонвилю, он увидел мальчика, спящего на траве у края канавы.
— Вы — доктор? — спросил ребенок.
Услышав ответ Шарля, он взял деревянные башмаки в руки и побежал перед ним.
По дороге из разговоров с проводником лекарь сообразил, что старик Руо был одним из самых зажиточных сельских хозяев. Он сломал себе ногу накануневечером, в крещенский сочельник, возвращаясь с соседской пирушки. Жена его умерла два года тому назад. С ним жила «барышня» — дочь, помогавшая ему вести хозяйство.
Колеи стали глубже вблизи фермы. Паренек, юркнув в дыру среди живой изгороди, вдруг исчез и появился снова на дворе, чтобы отпереть ворота. Лошадь скользила по мокрой траве; Шарль нагибался, проезжая под ветвями. Сторожевые псы лаяли у конур и рвались с цепей. При въезде в Берто лошадь вдруг чего-то испугалась и шарахнулась в сторону.
Ферма являла вид достатка и порядка. В конюшнях через отворенные двери видны были сильные рабочие лошади, мирно жующие овес из новых колод. Вдольстроений тянулась, дымясь тонким паром, широкая полоса навоза, а на ней, среди кур и индюшек, поклевывали зерна пять-шесть павлинов — роскошь нормандских птичьих дворов. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга с кнутами, хомутами и полною упряжью; на их синие шерстяные покрышки сыпалась из амбара тонкая пыль. Покатый двор был обсажен через ровные промежутки деревьями. У маленького пруда весело гоготали гуси.
Молодая женщина в голубом мериносовом платье с тремя оборками встретила врача на пороге дома и ввела в кухню, где пылал веселый огонь. У огня варился людской завтрак в горшочках разной величины. Мокрая одежда сушилась над очагом. Лопатка для угольев, щипцы, мехи — все было огромных размеров и блестело металлическими частями, вычищенными как зеркало. Длинные полки были уставлены обильною кухонноюутварью, отражавшею неровным блеском и яркое пламя очага, и вместе первые лучи заглянувшего в окно солнца.
Шарль поднялся по лестнице в комнату больного. Тот лежал в постели, обливаясь потом под одеялами и далеко отбросив в сторону бумажный ночной колпак. Это был малого роста толстяк, на вид лет пятидесяти, с белой кожей, голубыми глазами и лысиной ото лба; в уши были продеты серьги. Возле него на стуле стоял большой графин водки, из которого время от времени он наливал себе стаканчик для бодрости; но при виде доктора его возбуждение спало, и вместо того чтобы ругаться, как он ругался целых двенадцать часов перед тем, он стал тихо стонать.
Перелом был простой, без всяких осложнений. О более легком случае Шарль не смел и мечтать. Вспомнив приемы своих учителей у постели больных, он старался подбодрить пациента всевозможными остротами, этими хирургическими ласками, похожими на масло, которым смазывают скальпель. Для лубков послали за дранью в сарай. Шарль выбрал одну дранку, разрезал ее на куски и отполировал ее стеклом, пока служанка рвала простыни на бинты, а барышня Эмма шила маленькие подушечки. Так как она долго искала свой швейный несессер, то отец рассердился. Она ничего не ответила; но, принявшись за шитье, несколько раз колола себе пальцы и подносила их ко рту, чтобы высосать кровь.
Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие, суживающиеся к концам, глаже диеппских изделий из слоновой кости и подстрижены в форме миндалей. Руки ее, однако, не были красивы, — быть может, недостаточно бледны, с суховатыми суставами пальцев. Кроме того, они были слишком длинны, в их очертаниях не было мягкости. Прекрасны были ее глаза: карие, они казались из-под ресниц черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника прямо, с чистосердечною смелостью.
Когда нога была перевязана, господин Руо сам пригласил доктора подкрепиться едой перед отъездом.
Шарль сошел в большую комнату нижнего этажа. Два прибора с серебряными кубками ждали на накрытом к завтраку столике неподалеку от широкой кровати под ситцевым пологомс изображениями турок. Запах ирисаи сырых простынь распространялся от высокого дубового шкафа, стоявшего против окна. По углам были свалены рядами на пол мешки с зерном — излишек, не поместившийся в соседнюю кладовую, куда вели трикаменные ступеньки. Украшением комнаты служила голова Минервы в золоченой рамке посредине стены, выкрашенной в зеленую краску, облупившейся отселитры; подкарандашным рисунком были выписаны готическимибуквами слова: «Дорогому папаше».
Сначала поговорили о больном, потом о погоде, о стужах, о волках, что рыскают по полям ночью. Барышне Руо жилось в деревне невесело, особенно теперь, когда на нее одну свалились все хлопоты по ферме. В доме было свежо; зубы ее за едой постукивали от холода, причем слегка приподымались ее полные губы, которые она имела привычку кусать в промежутках молчания.
Шeя ее выступала из белого отложного воротничка. Черные волосы, уложенные на голове двумя густыми бандо, как бы сделанными из одной сплошной массы — до того они были гладки, — разделялись посреди головы узким пробором, выдававшим линию черепа; оставляя едва открытыми кончики ушей, они сливались на затылке в пышный шиньон, обрамлявший виски волнистыми локонами, чего деревенский врач еще ни разу в своей жизни не видел. Щеки у нее были розовые. Между двух пуговиц лифа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.
Когда Шарль, зайдя к старику проститься, опять сошел вниз, готовый пуститься в путь, он застал девушку у окна; прислонясь лбом к стеклу, она смотрела в сад, где ветер опрокинул подпорки на грядах бобов. Она обернулась:
— Что-то ищете?
— Виноват, я оставил здесь хлыст, — ответил он. И принялся шарить по кровати, за дверьми, под стульями; хлыст завалился у стены за мешки с зерном.
Эмма увидела его и нагнулась над мешками. Шарль из вежливости бросился туда же и, протянув руку, почувствовал, что грудь его коснулась спины молодой девушки, нагнувшейся перед ним. Она выпрямилась, с зардевшимся лицом, и, взглянув на него через плечо, подала ему плеть из бычачьей жилы.
Вопреки обещанию быть в Берто через три дня, доктор навестил больного на другой же день; потом стал приезжать два раза в неделю неуклонно, не считая случайных посещений в неположенные сроки и как бы невзначай.
Все, впрочем, шло прекрасно; выздоровление подвигалось правильно, и когда через сорок шесть дней соседи увидели, как дядя Руо собственными силами ковыляет по своей «лачуге», на Бовари стали смотреть как на весьма даровитого медика. Старик Руо говорил, что первые врачи Ивето и даже Руана не могли бы вылечить его успешнее.
А Шарль и не задумывался над вопросом, почему он с такою радостью ездит в Берто. Если бы он над этим подумал, то, вероятно, приписал бы свое рвение серьезности случая или, быть может, надежде на хорошее вознаграждение. Но неужели поэтому поездки в Бертосоставляли столь пленительное исключение средискучных занятий его жизни? В эти дни он вставал очень рано, пускал лошадь в галоп, соскочив с нее, вытирал ноги о траву и, прежде чем переступить порог, натягивал на руки черные перчатки. Он любил, въезжая надвор фермы, задевать плечом открывающуюся вовнутрь калитку, слушать крик петуха на заборе, быть встреченным выбежавшей прислугой. Ему нравились рига и конюшни, нравился старик Руо, хлопавший его в ладонь для дружеского рукопожатия и величавший его cвoим спасителем; нравился и стук деревенских башмачков Эммы по чисто вымытым плитам кухни: высокие каблуки увеличивали ее рост, и, когда она шла перед ним, деревянные подошвы, быстро подскакивая, щелкали о кожу ботинка.
Она всегда провожала его до первой ступеньки крыльца и ждала, пока ему подведут лошадь. Они уже попрощались и больше не разговаривали; ветер играл выбившимися завитками волос на ее затылке или крутил вокруг ее стана завязки фартука, развевавшиеся, как вымпелы.Однажды в оттепель, когда кора на деревьях была мокрая,а снег на крышах таял, она вышла на крыльцо с зонтиком в руках и раскрыла его. Сизый шелк, пронизанный солнцем, бросал беглые тени на ее белую кожу. Под ним она улыбалась мягкому теплу; и слышно было, как капли одна за другой падали на туго натянутую ткань.
Когда Шарль только что начал ездить в Берто, молодая Бовари каждый раз осведомлялась о больноми в своей приходно-расходной книге отвела господину Руо прекрасную чистую страницу. Но, узнав, что у него есть дочь, понавела справки. Оказалось, что барышня Руо, воспитывавшаяся в монастыре у урсулинок, получила, что называется, «образование» — училась танцам, географии, рисованию, умела вышивать, играла на фортепиано. Этого еще недоставало!
«Вот почему, — догадывалась она, — он так расцветает, когда едет к ней; вот зачем надевает он новый жилет и не боится испортить его под дождем! Ах эта женщина! Эта женщина!..» И жена Шарля слепо возненавиделаЭмму. Сначала вырывались у нее только намеки, ноШарль не понимал их. Потом она перешла к общим размышлениям на родственные темы. Шарль безмолвствовал, опасаясь бури. Наконец, отвела душу в брани напрямик; обвиняемый не знал, что ответить.
«Зачем это он все норовит завернуть в Берто, когда Руо давно здоров? Благо бы деньги платили, а с них еще ничего не получено. Aгa! Причина та, что там есть одна особа — светская девица, ученая, рукодельница! Так вот чего ему нужно: ему понадобились городские барышни!»
И начинала сызнова:
— Как, это дочка-то Руо — городская барышня! Скажите пожалуйста! Да у них дед пастухом был, а двоюродный брат едва не попал за буйство под уголовщину. Не стоит, казалось бы, напускать на себя столько важности и выплывать по воскресеньям в церковь в шелковом платье, ни дать ни взять — графиня! К тому же, если бы не прошлогодняя репа, бедняга едва ли справился бы с недоимками!
Шарлю надоело это слушать, и он прекратил поездки в Берто. Элоиза заставила его присягнуть, положа руку на молитвенник, что он больше туда не поедет; она рыдала и в бешенстве любви осыпала его несчетными поцелуями. Он покорился, но отвага его желаний бунтовала против его рабского поведения, и с каким-то наивным лицемерием он счел в душе, что запрет видеться дает емуправо любить. К тому же вдова была суха, у нее былидлинные зубы, и круглый год она носила черный платок, кончик которого свешивался между лопатками; ее жесткий стан с плоскими бедрами был обтянут узким и слишком коротким платьем, которое открывало ее щиколотки с завязками широких башмаков, скрещенными на серых чулках.
Мать Шарля навещала их время от времени и через несколько дней уже плясала под дудку своей невестки; тогда вдвоем принимались они пилить его своими внушениями и отчитываниями. Ему не следует так много есть! К чему угощать каждого встречного вином? Какое упрямство не носить фуфайки!
В начале весны случилось, что нотариус из Ингувиля, хранитель капиталов вдовы Дюбюк, в один прекрасныйдень, обещавший попутный ветер, пустился в дальнее плавание, увезя с собою все деньги, вверенные его попечениям. Правда, у Элоизы кроме доли в торговом судне,оцениваемой в шесть тысяч, был еще дом на улице Св. Франциска; но из всего ее состояния, о котором так много трубили, еще ничего не оказывалось в хозяйственной наличности, если не считать кое-какой мебели да тряпок. Надобно было вывести все на свежую воду. Дом в Дьеппе был заложен и перезаложен: долги подточили его до последней балки. Какие суммы хранились у нотариуса, один бог ведал, а доля в судне не превышала тысячи экю. Итак, милая барынька изволила налгать! В ярости Бовари-отец сломал о пол стул, укоряя жену за то, что она погубила сына — запрягла его на всю жизнь с клячей, у которой сбруя не стоит шкуры. Оба приехали в Тост. Начались объяснения, сцены. Элоиза в слезах бросиласьна шею мужу, умоляя защитить ее от своих родных. Шарльза нее заступился, родители рассердились и уехали.
Но удар был нанесен. Неделю спустя, когда она развешивала белье на дворе, у нее пошла горлом кровь, а на другой день — Шарль в эту минуту, отвернувшись от нее, задергивал оконную занавеску — она вскрикнула: «Ах, боже мой!» —и испустила дух. Она была мертва! Какая неожиданность!
Когда все было кончено на кладбище, Шарль вернулся домой. Он никого не застал внизу; поднялся в комнату жены, увидел ее платье, висевшее у алькова, в ногах кровати, и, облокотясь о письменный стол, просидел до вечера в грустном раздумье. Как-никак, она все же его любила!
III
Однажды утром явился к Шарлю старик Руо и принес ему плату за лечение ноги: семьдесят пять франков монетами в сорок су и индюшку в подарок. Он слышал о его горе и принялся утешать его, как умел.
— Знаю сам, что это такое! — говорил он, хлопая его по плечу. — Сам был в вашем положении! Как схоронил покойницу, все, бывало, норовлю забресть подальше; брожу в поле, чтобы глаз мой никого не видел; брошусь наземь под деревом, плачу, призываю Господа Бога, всякий вздор Ему говорю; и зачем я, мол, не этот крот, у которого черви брюхо съели, — хочу, дескать, издохнуть. А как подумаю, бывало, что вот другие сидят себе в эту самую минуту со своими женками да целуются, — палкой по земле колочу со злобы; едва разумом не рехнулся; не ел, не пил; о трактире и вспомнить противно, поверите ли? И что же бы вы думали? Мало-помалу, потихоньку да полегоньку, день за днем, за зимой весна, за летом осень, крошка за крошкой, капля за каплей, — отошло оно, горе-то, разошлось, что ли, будто на дно осело, хочу я сказать, потому что как-никак, а все ж остается что-то внутри человека, тяжесть какая-то на груди! Но ведь уж это, так сказать, общая всем участь, и нельзя, знаете ли, себя изводить: другие умирают, так и я, мол, тоже хочу… Встряхнуться вам надобно, господин Бовари, оно и пройдет! Приезжайте-ка к нам. Дочь вас время от времени, знаете, поминает, говорит, что вы ее совсем забыли. Скоро весна; на охоту вас потащим — кроликов стрелять, это вас порассеет.
Шарль последовал его совету. Он приехал в Берто и нашел все по-старому, словно он побывал здесь накануне, а минуло целых пять месяцев. Груши уже цвели, и добряк Руо, будучи ныне в полном обладании своими ногами, сновал без устали туда и сюда, что придавало ферме немалое оживление.
Считая долгом оказывать доктору особливую вежливость ввиду его горестного положения, он то и дело просил его не снимать шляпы, говорил с ним вполголоса, как с больным, и даже притворился рассерженным, что для него не приготовили какого-нибудь особого, более легкого кушанья, например, крема или компота из груш.Он рассказывал анекдоты. Шарль поймал себя несколько раз на проявлениях неуместной в его положении веселости; он вспоминал о жене, и смешливость сменялась угрюмой сосредоточенностью. За кофе он уже забыл о своем трауре.
По мере того как он привыкал жить один, все реже думал он о покойнице. Новая прелесть независимости была отрадой его одиночества. Он мог теперь по произволу менять часы обеда и завтрака, уходить из дому и возвращаться, не давая в этом никому отчета, а утомясь, вытягиваться на постели во всю длину своего тела и во всю ширину кровати. Он нежился, холил себя и выслушивал утешения, с которыми к нему приходили.С другой стороны, смерть жены оказала некоторую услугу его врачебной практике, так как целый месяц все повторяли: «Ах, бедный молодой человек! Какое несчастье!» Имя его стало более известным, число его пациентов увеличилось. К тому же он мог ездить в Берто когда ему вздумается. В нем жила какая-то беспредметная надежда, он испытывал неопределенное счастье; разглаживая перед зеркалом бакенбарды, он находил, что лицо его стало как-то приятнее.
Однажды он приехал на ферму около трех часов пополудни; все были в поле. Он вошел в кухню и сначала не заметил Эмму — ставни были заперты. Сквозь их щели протягивались по полу длинные, тонкие полосы света, ломались по углам мебели и дрожали на потолке. На столе по невымытым стаканам ползали мухи и с жужжанием тонули в остатках сидра. Свет проникал через трубу, и сажа на плите казалась бархатистою, а остывшая зола слегка голубела. Между окном и очагом сидела Эмма и шила; она сняла косынку; на ее обнаженных плечах выступали капельки пота.
По деревенскому обычаю, она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Он отказался, она настаивала и наконец, смеясь, предложила ему осушить с нею рюмку ликера. Вынула из шкафа бутылку кюрасо, достала две рюмки, наполнила одну до краев, а в другую чуть капнула и, чокнувшись с ним, поднесла ее ко рту. Так как рюмка была почти пуста, она, чтобы ее опорожнить, закинула голову назад и, вытянув шею и протянув губы, смеялась, что в рот ей ничего не попадает, и кончиком языка, высунутым из-за красивых зубов, лизала дно рюмки.
Она уселась вновь и принялась за работу — за белый нитяный чулок, который штопала. Работала она нагнув голову, не произносила ни слова, и Шарль молчал тоже. Воздух снаружи, задувая из-под двери, гнал пыль по плитам; Шарль глядел на эту влекущуюся пыль и слышал только, как стучит у него в висках да кудахчет издали, на дворе, наседка. Эмма порой, чтобы освежить себе щеки, прикладывала к ним ладони рук и опять остужала ладони на железном шаре каминной решетки.
Она стала жаловаться, что уже с начала весны чувствует головокружения; спросила, не помогут ли ей морские купанья; потом заговорила о монастыре, а Шарль о своей гимназии, и слова для беседы нашлись. Оба поднялись наверх, в ее комнату. Она показала ему свои старые тетради нот, книжки, полученные ею в награду, венки из дубовых листьев, заброшенные на дно шкафа. Еще она говорила ему о своей матери, о кладбище и даже показала в саду грядку, с которой рвала цветы в первую пятницу каждого месяца, чтобы отнести их на ее могилу. Но садовник ничего не умеет; у них такая плохая прислуга! Ей хотелось бы, по крайней мере зимой, жить в городе, хотя летом деревня, пожалуй, еще скучнее: день тянется без конца… И смотря по тому, о чем она говорила, ее голос то делался звонким и высоким, то вдруг обволакивался томностью и в замедленных переливах понижался почти до шепота, словно она говорила сама с собой — то радостная, с наивно раскрытыми глазами, то опуская веки, со взглядом потухшим и скучающим, с выражением рассеянно блуждающей мысли.
Вечером, возвращаясь домой, Шарль перебирал поочереди все фразы, ею сказанные, стараясь восстановить их в памяти и дополнить их смысл, чтобы представить себе ту пору ее жизни, когда он еще не знал ее. Но ему не удавалось вообразить себе ее иною, чем какою он увидел ее в первый раз или какою только что оставил. Потом он задумался над тем, что с нею станется, когда она выйдет замуж, — и за кого выйдет? К сожалению, старик Руо богат, а она… так красива! Лицо Эммы постоянно всплывало перед его глазами, и какой-то монотонный голос, как жужжание волчка, твердил ему на ухо: «А почему бы тебе самому не жениться? Почему бы нет?» Ночью он не мог спать, что-то сжимало ему горло,хотелось пить. Он встал, чтобы напиться из кувшина, и отворил окно. Небо было усеяно звездами, проносился теплый ветерок, вдали лаяли собаки… Он погляделв сторону Берто.
Решив, что, в сущности, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово сделать предложение, как только представится к тому случай; но всякий раз, когда случайпредставлялся, страх не найти приличествующих слов зажимал ему рот.
Старик Руо был не прочь стряхнуть с шеи заботу о дочери, которая была ему плохою помощницей в хозяйстве. В душе он оправдывал ее, находя, что это дело не по такой умнице, как его дочь, — проклятое дело, так как из сельских хозяев еще ни один не сделался миллионером. Сам он не только не богател, но еще ежегодно терпел убытки: торговать, правда, был он мастер и находил особенное удовольствие в хитростях ремесла, зато земледелец и хозяин был плохой. Расхаживал, заложив руки в карманы, не рассчитывал издержек на жизнь, не отказывал себе ни в чем: любил хорошо есть, мягко спать, жить в тепле. Ему нужны были крепкий сидр, кровавый ростбиф, подолгу сбивавшийся кофе с ромом. Oбeдал он один, в кухне, близ огня, за столиком, который ему приносили уже накрытым, как в театре.
Заметив, как у Шарля разгорались щеки в присутствии его дочери (это означало, что, того и гляди, онпопросит ее руки), старик заранее обо всем поразмыслил.Правда, он находил Шарля немного «легковесным» — не такого зятя он бы себе желал; зато лекарь слыл человеком добропорядочным, бережливым, знающим свое дело, и нельзя было ожидать, что он станет торговаться о приданом. А так как дяде Руо предстояло продать двадцать два акра своей земли и заплатить долги каменщику и шорнику, да еще поставить новый вал в давильне, то он сказал себе:
— Коли попросит ее руки — куда ни шло, отдам!
К празднику Михаила Архангела Шарль приехал в Берто погостить дня на три. Уж и последний день прошел, как и первые; с часа на час он все откладывал объяснение. Старик пошел его провожать; шли они по выбитой дороге, собирались уже проститься; наступала решительная минута. Шарль дал себе сроку до угла изгороди и, когда завернули, наконец пробормотал:
— Дядя Руо, мне хотелось бы вам кое-что сказать.
Остановились. Шарль молчал.
— Ну говорите же, что вы там хотели! Неужто я сам не знаю, в чем ваше дело? — сказал Руо, посмеиваясь.
— Дядя Руо… дядя Руо… — бормотал Шарль.
— Что ж, я со своей стороны весьма рад, — продолжал фермер. — Девочка, конечно, со мной не заспорит, а все же, знаете, надо и ее спросить. Идите-ка себе домой, и я тоже. Коли она согласна, то — слушайте хорошенько — вам не следует возвращаться к нам, чтобы не будоражить народ, да к тому же и она волнуется. Но чтобы вы не мучились, я откину ставень у окна настежь, распахну его до стены: издали увидите, стоит только перегнуться через изгородь.
Он ушел.
Шарль привязал лошадь к дереву, побежал в кусты; стал ждать. Прошло полчаса, потом он насчитал еще девятнадцать минут по своим часам. Вдруг раздался удар об стену; ставня распахнулась, задвижка еще дрожала.
На другой день в девять часов он был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, стараясь для приличия засмеяться. Старик Руо обнял будущего зятя. Заговорили о денежных делах. Времени было, впрочем, довольно, так как благопристойность требовала отложить свадьбу до конца траура по первой жене, то есть до весны будущего года.
Зима прошла в этом ожидании. Барышня Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане; и еще она сама нашила себе рубашек и ночных чепчиков по модным журналам, которые брала на подержание. Когда на ферму приезжал Шарль, говорили о приготовлениях к торжеству, обсуждали, в какой комнате накрыть свадебный стол, мечтали, сколько будет блюд и что подадут для начала.
Эмма желала бы венчаться в полночь, при факелах; но дяде Руо эта затея была совершенно непонятна. Итак, свадьбу сыграли честь честью: присутствовало на ней сорок три человека гостей; за столом сидели шестнадцать часов; на другой деньпразднество возобновилосьи продолжалось еще несколько дней кряду.
IV
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.