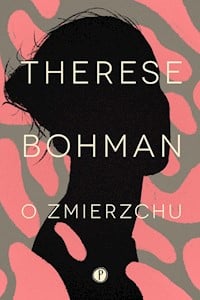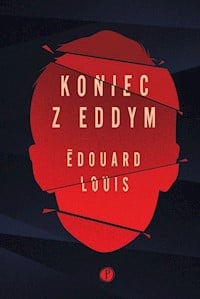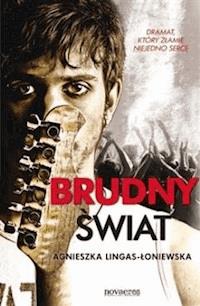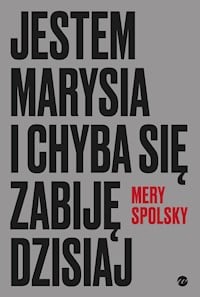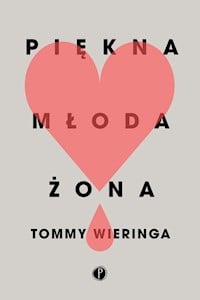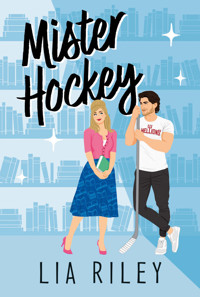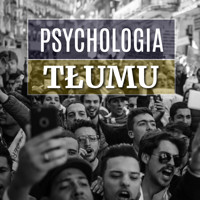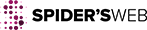Uzyskaj dostęp do tej i ponad 250000 książek od 14,99 zł miesięcznie
- Wydawca: Наірі
- Kategoria: Literatura obyczajowa i piękna
- Język: polski
Період — майже сто років. Сучасники — Ольга Кніппер-Чехова, Марія Миронова, Олександр Менакер, Рина Зелена, Тамара Ханум, Євген Вучетич, Костянтин Хохлов, Михайло Романов, Марія Стрелкова, Клавдія Шульженко, Віктор Халатов, Олег Борисов, Давид Боровський, Михаїл Резнікович. Про себе, про них та про багатьох інших — у стилі Малі Швідлер. Якщо ви не бачили цієї іскрометної актриси на сцені і не стикалися з нею в житті, то ця книга — чудова можливість зазирнути у світ іронічної жінки і дізнатися, що відчуває одеська красуня, втрачаючи молодість, коханих, близьких, і що допомагає їй до кінця залишатися незрівнянно чарівливою — залишатися собою.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 356
Odsłuch ebooka (TTS) dostepny w abonamencie „ebooki+audiobooki bez limitu” w aplikacjach Legimi na:
Podobne
Аннотация
Время — без малого — сто лет. Современники — Ольга Книппер-Чехова, Мария Миронова, Александр Менакер, Рина Зеленая, Тамара Ханум, Евгений Вучетич, Константин Хохлов, Михаил Романов, Мария Стрелкова, Клавдия Шульженко, Виктор Халатов, Олег Борисов, Давид Боровский, Михаил Резникович. О себе, о них и многих других — в духе Мали Швидлер.
Если вы не видели эту искрометную актрису на сцене и не соприкасались с ней в жизни, то эта книга — прекрасная возможность заглянуть в мир ироничной женщины и узнать, что чувствует одесская красавица, теряя молодость, любимых, близких, и что помогает ей до конца оставаться неподражаемо притягательной — оставаться собой.
© «НАИРИ», 2013
ISBN 978-966-8838-78-1
Мальвина Швидлер
Жизнь как детская рубашка...
Подлинный талант
Так случилось, что в первый, будем говорить, «отроческий период» моей жизни в Театре им. Леси Украинки (1963-1966 годы) мы с Мальвиной Зиновьевной редко общались. Она не была занята ни в одном из моих спектаклей, хотя во многих, очевидно, нашлась бы ей интересная работа. Почему?.. Бог его знает... Возможно, потому, что она мне, новому, молодому режиссеру, не старалась понравиться, не была назойливой, а я был недостаточно опытен, чтобы разглядеть в ней могучую индивидуальность.
Сегодня я корю себя даже не за то, что она в то время не играла в моих спектаклях, а прежде всего за то, что не состоялось наше человеческое общение, что могло бы принести немало неожиданного, яркого, — тех самых положительных эмоций, дефицит которых почти во все годы жизни на театре ощущается, даже если тебе вроде что-то и удается.
Встретились мы с Мальвиной Зиновьевной позже, в тысяча девятьсот семидесятом, когда я ставил «Детей Ванюшина» С. Найдёнова. Актриса репетировала роль жены Ванюшина — Арину Ивановну. Она была сравнительно молода для нее, забитой, чуть суетливой, трогательной старушки. Тем не менее, Швидлер смогла понять эту женщину и прожить ее жизнь. Она стала совестью дома и. совестью спектакля. Особенно пронзительно и трагично это выразилось в молитве Арины Ивановны о счастье детей, которой мы заканчивали второй акт. Когда она завершалась, зал взрывался бурей аплодисментов.
Работа эта стала несомненной удачей актрисы. Скептики, а их всегда немало в нашей среде, были побеждены.
В театре всю жизнь нужно доказывать. Сколько ролей ты бы ни переиграл, каждая новая работа — экзамен на право выходить на подмостки. Экзамен, длящийся всю жизнь. Мальвина Зиновьевна это отлично понимала и в достаточно жесткой конкуренции творчески отстаивала свое право играть большие, заглавные роли в хорошем большом театре. Подчас ее игра напоминала вдохновенную актерскую импровизацию. Она играла на сцене в жизнь, и при этом так наивно, так вдохновенно, что зрители не хотели с ней расставаться.
В нашем театре Мальвину Зиновьевну Швидлер называли ласково и нежно — Маля. Это детское, чуть трогательное уменьшительное имя очень ей шло. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь иной народный артист у нас в театре позволил своим младшим коллегам так к нему обращаться. Но у Мальвины Зиновьевны было потрясающее чувство юмора, соседствующее с великой мудростью, — она позволяла.
Диапазон ролей у Мальвины Зиновьевны был огромен. Она достаточно органично проявила себя в разных жанрах — от высокой психологической драмы до водевиля. Если идти в обратной последовательности, от Бабушки в «Игроке» по Ф. Достоевскому 1982-го до Анки в «Госпоже министерше» Б. Нушича 1948-го. Не всегда слова могут передать и выразить то ощущение подлинного праздника, что возникало при встрече на подмостках с подлинным талантом. А Маля — Мальвина Зиновьевна — была талантлива!!!
Я могу лишь свидетельствовать: М. Швидлер в каждой роли всегда завораживала и покоряла зрительный зал бескорыстной пульсацией ее вдохновенного человеческого сердца.
Михаил Резникович,
художественный руководитель Театра русской драмы им. Леси Украинки,
2013 г.
Планета по имени Маля
Каждый театр, независимо от того, большой он или маленький, успешный или не очень, пользуется зрительским интересом и любовью или не всегда, имеет свою театральную легенду. Пусть маленькую, но свою. И каждый театр имеет своего хранителя, или, точнее сказителя этих театральных легенд, которые со временем от долгого и многократного пересказывания переходят в разряд театральных баек. Тогда уже никто точно не может сказать, было ли это на самом деле, и что правда, а что вымысел. В своей театральной жизни я сталкивался с этим не раз. История, рассказанная так, да не так, уже теряла какой-то свой, неповторимый привкус. И каждый раз я сокрушался — ну почему эту историю не записали вовремя, сами участники или ее первые слушатели. Помню, как долго уговаривал Евгению Эммануиловну Опалову разрешить записывать за ней. И каждый раз получал отказ. Лишь однажды она согласилась записать наш часовой разговор на пленку. И все...
Когда судьба близко свела меня с другой старейшиной Киевского театра имени Леси Украинки Мальвиной Зиновьевной Швидлер, я сначала наслаждался общением с ней, потом пытался уговорить ее записывать свои побасенки (она тогда еще нормально видела и могла это делать безо всякой посторонней помощи). Всякий раз она отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, и напоминала мне, что Опалова тоже отказалась записывать свои воспоминания, мотивируя тем, что, вспоминая, нужно говорить правду, а многие участники событий живы и могут обидеться.
Первый раз Мальвина Зиновьевна сдалась не мне, а Светлане Леонтьевой, которая делала небольшие зарисовки об известных людях на войне. Узнав от меня, что Мальвина Зиновьевна во время войны была в эвакуации, где был весь свет творческой интеллигенции, она заинтересовалась этой темой. Мальвина Зиновьевна не смогла отказать ей и чуть приоткрыла то, что хранила ее память многие десятилетия. Телезарисовка была сделана очень толерантно и с большой любовью. Вот тогда-то я попросил Светлану использовать камеру для другой записи. И Мальвина Зиновьевна, взяв с меня клятву, что ее рассказ об уходе К. Хохлова из театра не появится раньше ее ухода из жизни, сделала свою первую запись на пленку о том, что ее тяготило всю ее жизнь. Так появился рассказ об актере на букву «Б»... А вскоре она сама стала проявлять интерес к записи своих воспоминаний. Давалось ей это с трудом, и тогда мы решили, что я ей буду передавать кассеты, а она под настроение будет включать свой маленький магнитофон и записывать все то, что ей захочется вспомнить, о чем рассказать. Так стали появляться кассеты с голосом Мали, которая рассказывала о том, что в данную минуту хотелось рассказать, о ком вспомнить. И название этой книги озвучила сама Мальвина Зиновьевна. Она очень часто любила повторять эту несколько скабрезную и по своему философскую фразу — «Жизнь, как детская рубашка, — такая же короткая и закаканная». Согласитесь, она была во многом права. Да, чуть не забыл — эта фраза в разных интерпретациях имеет свое продолжение. Одно из них звучит как тост — «Выпьем за те дни, когда удается ее постирать». Думаю, что Мальвина Зиновьевна знала это продолжение, но никогда его не озвучивала.
Актрисой Мальвина Зиновьевна была необычайной. Ей удавалось за короткое сценическое время создать яркий запоминающийся образ. Сама того не подозревая, она сумела войти в очень небольшое число актеров, на которых ходили завсегдатаи киевской Русской драмы, заняв свое не последнее место на ее небосклоне. Такими же яркими оказались и ее устные зарисовки, наброски портретов коллег, друзей и просто знакомых. Рассказывала она всегда увлеченно, с полной самоотдачей. Правда, на пленках ее голос звучит порой чересчур сдержанно, но это, очевидно, в память о том, что при наличии микрофона контроль необходим. И следовать этому нужно неуклонно. Будучи натурой увлекающейся, артистичной, она однажды все же не уследила за эмоциями и в прямом телевизионном эфире, беседуя с Татьяной Цимбал, перепутала «эвакуацию» с «оккупацией». Осознав ляп, который она допустила, и понимая, что это прямой эфир, а не запись, Мальвина Зиновьевна решила быстро исправиться, но тут же совершила другой ляп — озвучила в испуге свои собственные мысли и, как дитя своего времени, воспитанное в страхе перед последствиями за каждое сказанное слово, быстро, но четко сообщила обескураженной Татьяне Цимбал: «Нас сейчас отсюда арестуют». И тут же рассмеялась вместе с ведущей эфира. Тогда мне показалось, что смех был несколько нервный, нежели юморной. Этот эпизод доставил неописуемое удовольствие всем тем, кто стоял в этот момент за кадром. И как только закончился эфир, вся молодежь, находящаяся в студии, бросилась к Мальвине Зиновьевне просить автограф. Она была немного обескуражена таким вниманием, все время повторяя: «Что я говорила, что я говорила?» Татьяна Васильевна Цимбал, смеясь, ее долго успокаивала и говорила, как это было прекрасно и непринужденно. Через какое-то время Мальвина Зиновьевна несколько успокоилась и уже сама стала подшучивать над собой, звонко смеясь и вставляя сальные словечки. Надо заметить, что она любила ненормативную лексику, но различные слова употребляла настолько виртуозно, что звучали они, как музыка, как песня, из которой, как известно, слов не выбросишь. Однако, записывая на кассеты свои воспоминания, она как бы внутренне собиралась, голос ее звучал уверенно, но на регистр ниже обычного, слова произносились медленно и четко. Она отдавала себе отчет, что каждое слово уходит в вечность, а плевать в эту самую вечность она не хотела. Но стоило нажать кнопку магнитофона, остановить запись, и Мальвина Зиновьевна вновь превращалась в Малю.
В какой-то момент, очевидно, устав от всего, а главное, устав от своего зависимого положения, она начинала сомневаться, а нужно ли все это. И тогда не сговариваясь все, кто был вхож в ее дом, перезванивались с ней по телефону, начинали говорить, что ждут ее воспоминаний, что если не она, то кто же расскажет об Анне Ахматовой, Вучетиче, Тамаре Ха-нум и в конечном итоге о театре, который она так беззаветно любила. В этих уговорах не было ни звука неправды. Мальвину Зиновьевну любили за искрометный юмор, неподражаемые интонации, сумасшедшее трагифарсовое дарование. Она удивительно легко сходилась с молодыми актерами, ее любили реквизиторы и гримеры, костюмеры и монтировщики. В лучах солнца ее человеческого и актерского таланта более пятидесяти лет согревались многие поколения коллег и зрителей.
Вот уже несколько лет как солнце по имени Маля, Мальвина, зашло за горизонт, туда, откуда еще никто не возвращался. Остались светлые воспоминания, ощущение тепла, несколько часов видеозаписей и еще вот эта книга, которую вы, дорогой мой читатель, держите в руках. Она появилась на свет благодаря огромной любви Мальвины Зиновьевны к театру и любви многих людей к ней самой. Пусть эта книга для нас с вами станет маленькой планетой по имени Мальвина в солнечной системе Его Величества Театра.
Борис Курицын
Маля, какой вы была!
Эта фраза из текста едва не стала заглавием книги. Но надо признать, что так восторженно вспоминали о ней. Она же к собственной персоне относилась исключительно с самоиронией.
Малечка. Не могу похвастать, чтобы я к ней так хоть раз обратилась. Разве что мысленно. Вслух — только «Мальвина Зиновьевна». Она мне годилась в бабушки. Похоже, она ею и стала (моя собственная в ту пору угасала). Думаю, многие из тех, кого она приняла, захотят оспорить мое утверждение. Скажут, мол, и нам она была... Это правда, многим она стала близкой. Сколько ж в ней было доброты, любви и тепла!
Мы познакомились на излете ее жизненных сил. Она еще ходила, соглашалась на операции, надеясь обрести зрение, ездила летом в Феофанию, помнила дни рождения, диктовала телеграммы, придумывала забавные символичные подарки, набирала вслепую номера телефонов. Подбадривала, разыгрывала. Мягко, очень своеобразно вворачивала словечки, которые из уст других звучали б, несомненно, бранью. Но с журналистами уже общалась неохотно. На интервью для «Каравана историй» мы и познакомились. Если б не ландыши, не вспомнила бы время года. А так, помню, М.З. сходу ошарашила: «Зачем слепой цветы?» Договорились, в следующий раз приду с копченой рыбкой. И пахнет не менее приятно, и деньги не на ветер. Она как будто что-то знала. После этого было много следующего и последующего.
Очень жалею, что не записывала ее повседневных реакций. Зачастую это были просто перлы. Жалею, что не записывала ее бытовые истории: о том, как ее старший брат вымазал раввину губы салом, миниатюры «Сумочка», «Индеец в перьях», догадки об изменах мужа. Они были отточены М.З. до анекдота. Без нее их уже так сочно не воспроизвести. Очень благодарна Борису Курицыну, который задолго до моего знакомства с нею убедил М.З., что нужно наговорить воспоминания на диктофон (одиннадцать кассет, что символично, мы решили оставить, как и стиль монолога). Пусть невпопад, пусть кое-что отрывисто, но некоторые эпизоды были проговорены ею от и до. Они стали образцом, к чему можно уже было дотягивать остальное. Жалею, что не взялась за дело сразу. Два года нашего знакомства не решалась. Пыталась уговорить тех, кто знал ее еще на сцене и писал о ней, на мой взгляд, лучше моего. Не решалась, пока М.З. на дне рождения не распорядилась при гостях принести папку с расшифровкой записи и не сказала: «Мою маму звали Любовь Ароновна. Любой (Шах) звали мою любимую подругу. Ты — последняя Любовь в моей жизни, думаю, неслучайная». Ох и умела мобилизовать.
Но одна я с этим ни за что б не справилась. Мы созванивались, я переспрашивала, «кто кому Рабинович», последовательность, стыковки. Уточняла, дописывала. После чего читала главу целиком. М.З. правила на слух. Тяжелее всего было с первой главой. Ее как таковой не было. Начиналось все «я была дамочкой своеобразной». Но эта фраза почему-то так и не попала в книгу. Зато мадам Дитман не упоминалась нигде. Но как только М.З. заикнулась о ее существовании, начало выстроилось. Была найдена тональность. Она постоянно повторяла: «Мне нравится. Может, потому что это все обо мне?». Если я не звонила в определенное время, она звонила сама и переспрашивала: «Ты что, сегодня решила не кормить свою бабушку?». (Я звонила обычно, когда готовила еду и после вечернего чая.) А однажды трубку взяла моя двоюродная сестра (она недолго гостила у меня). Услышав: «Сучка малая, куда ты пропала?» — и догадавшись, кто это, поспешила ответить: «Сейчас, сейчас дам Любе трубку». При этом в своем окончательном тексте М.З. старалась избавиться от подобных слов. Может, потому что я, перечитывая, произносила их без должной легкости? А может, потому, что представляла незнакомого читателя, который, не услышав правильной тональности, осудит?
Самой забавной правкой было: «Убери “водку”, напиши “вино”». Речь шла об ухаживаниях ее будущего мужа (после работы в парке на скамейке они пили водку, заедая паюсной икрой).
Переспрашиваю: «Вы говорили, что и хлеба тогда не было. А вино было?»
М.З.: «Какое там вино в голодной Одессе? Просто подумают, что я была дешевой б... Вычеркни водку. Жалко, что ли?»
В дальнейшем, если я оспаривала неприглядный на слух эпизод, М.З. переспрашивала: «Хочешь, как водку, — оставить?» Но что-то мы с ней, конечно, исправили, какие-то моменты она, когда слегла, — переосмыслила. От каких-то и вовсе отказалась.
Но думаю, те, кто знал ее, услышат озорную тональность и узнают свою Малю.
Спасибо тем, кто верил и любил, кто помог выходу этой книги в свет:
Михаилу Резниковичу,
Борису Курицыну,
Наринэ Мальцевой,
Наталье Филипченко,
Дмитрию Червинскому,
Сергею Шевчишину,
Михаилу Гейкрайтеру,
Людмиле Берлинец,
Михаилу Назаренко,
Таисии Бойко,
Сергею Копылу.
Любовь Журавлева,
Киев, 13 февраля 2013
Кассета первая
Почему я появилась на свет
Я появилась на свет не по собственной инициативе.
И даже не по инициативе моих родителей. Я родилась по указанию мадам Дитман, хозяйки самой шикарной в Одессе кондитерской. В те времена мои родные могли позволить себе такую роскошь — захаживать к Дитманам.
Мой папа работал управляющим кирпичного завода и хорошо зарабатывал. Правда, когда родилась я... Ладно, об этом отдельно.
И было у них, у папы с мамой, два сына. Кажется, старшему тогда исполнилось девять. Значит, младшему было не меньше семи. И отчего-то моим будущим братьям ни с того ни с сего понадобилась сестричка. С тех пор они стали упорно выпрашивать ее у мамы. Причем они не просто просили сестричку, они требовали ее купить, хотя могу предположить, что этим двум чудным мальчикам в их годы было уже кое-что известно. Они так старательно выпрашивали ее у мамы, что в какой-то из дней мама согласилась. Но сама она рожать не собиралась. Ей было уже за тридцать. Точнее, ей было тридцать четыре. В то время женщины старше тридцати уже не рожали. Поэтому мои родные отправились в город: выбирать себе сестричку в приюте. Я говорю «в город», потому что жила наша благополучная семья на рабочей окраине Одессы.
Моего папу отыскать в городе было несложно. Чаще всего он пропадал в трактире. Просиживал там с утра до вечера, потому что именно там заключались сделки по роду его деятельности, то есть в трактире он продавал кирпич. Мама не могла подниматься в трактир.
Одесса, Тираспольская улица в начале ХХ столетия. Станция конки
Позже, когда мне исполнилось лет шесть, она посылала меня туда за папой. Я помню тусклые облака, взлетающие от огромных фарфоровых чайников, очевидно, кузнецовских. Вечно наполненный людским гулом квадрат неяркого зала, но вовсе не от того, что там пили водку, а от того, что там заключали сделки. В том трактире пили только чай! Но мама все равно всегда ждала папу в другом месте. На углу Преображенской и Тираспольской, у Дитманов. Я не оговорилась, Тираспольской. Во всем мире название этой улицы произносили бы, ставя ударение на слог «ра», и только в Одессе делали акцент на второй части слова — «польской». Это была особенная улица. Она начиналась в центре Одессы и через три квартала упиралась в центр Молдаванки, в конце которой жил Мишка Япончик. Но в своем истоке это была тихая несуетливая улица. Неприлично броской на ней выглядела только вывеска «ДИТМАН», зазывающая в баснословно дорогую кондитерскую. Засидеться там за чашечкой кофе приравнивалось чуть ли не к посещению Европы. А находилось это сладкое место в двух кварталах от нужного нам трактира.
Кто сбегал за папой в тот день, неважно. Важно, что маме в тот день кофе с пирожным подавала сама мадам Дитман, хозяйка заведения. При этом она заметила: «Почему сегодня такие нарядные мальчики?».
А мою маму черт дернул за язык признаться: «Просто мы едем брать девочку из приюта».
Мадам Дитман отреагировала настолько темпераментно, впрочем, как это сделала бы на ее месте любая одесситка. Она всплеснула руками и вскрикнула: «Вейз мир!» Наверняка и все остальное, ею сказанное, звучало не совсем по-русски. Но общий смысл ее возмущения был приблизительно таков: «Вы с ума сошли! Как можно? Нет, я понимаю, если бы у вас не было детей! Но у вас есть два собственных сына! И глядя на них, нивроку, не скажешь, что у вас это плохо получается! Почему ж вы едете в приют? Послушайте, что я вам скажу! Может, вы и будете к этой девочке относиться не хуже, чем к своим мальчикам, но что вы станете делать, когда она вам от “добрых” людей принесет это мерзкое слово “приемыш”»?
Здание бывшей кондитерской братьев Дитманов, ул. Тираспольская, 2 (фото 1990-х годов)
А вот тут простите за дословность, но эта хозяйка солидного заведения... Эта немолодая полная дама, облаченная в заметные брильянты и не вязавшийся с ними крошечный фартушек с рюшечками... Эта холеная мадам с вечно засученными до локтя рукавами неожиданно перешла на мощный крик, чем заставила своих дорогих посетителей умолкнуть и прислушаться к ее словам: «На х... вам приют?! Вы еще очень молодая женщина. Вы обязаны рожать сами!»
Мадам Дитман шумела недолго, но к появлению папы планы в кондитерской резко поменялись. Ни о какой покупке речи уже не шло. Мои братья лишний раз поели пирожных и уехали домой, так и не зайдя ни в один приют. И несмотря на это, у них все равно каким-то образом появилась я.
Представьте себе, зная эту историю, порой я допускала возможность думать, что мадам Дитман не отговорила их и что меня взяли-таки из приюта. Но уж больно хорошо мои родные относились ко мне. Правда, они ко всем хорошо относились, даже к Сталину, невзирая на то, что мой папа восемь месяцев отсидел в тюрьме. Но это было уже позже, когда стало модно сажать честных людей. О «счастье» своего папы расскажу отдельно. Сейчас же я думаю — какой приют? Если я не только внешность, но и «везение» унаследовала от своего бедного папочки?
Без сомнения, мадам Дитман таки ответственный и успешный предприниматель. Ведь третий ребенок мог тоже случайно оказаться мальчиком. И кому тогда, скажите, жаловаться?
Почему все несчастья валятся на наши головы?
Пока у моей семьи не было меня, у папы был выезд всякий, три кучера. Одного из них даже я помню. С пьяной грусти его частенько заносило к нам. Казалось бы, рабочий человек, а он бесконечно вспоминал сладкое житие при царе. К советской власти у него каждый день копились новые претензии, но такое впечатление, что высказать их он мог только нам. Не помню, чтоб этот гость хоть раз заявился без початой бутылки. Если папы не было дома, он стыдился пить, отчего становился еще мрачнее. При папе другое дело... Хотя папа с ним никогда не пил. Правда, его приезд заканчивался всегда одинаково, что с бутылкой под мышкой, что без нее, он уходил в печали. У нас обращались к нему нежно, Омелько. За глаза сообщали: «Приезжал твой русак».
А когда родилась я, уже мой папа занимался извозом. Только ему жаловаться было некому. К тому времени его завод разбомбили. Кстати, мы очень «везучие» люди. По-моему, тогда на всю Одессу свалилась всего одна бомба (или это был снаряд?). Так надо было этой дряни угодить в кирпичный завод? Как раз туда, где у моего папы была четырнадцатикомнатная квартира.
Да, и надо признаться, что и времечко для моего рождения мадам Дитман подгадала то еще — 19-й год. До самой смерти моей маме не давала покоя мысль, где тогда в голодной Одессе ее подруге удалось раздобыть три сухарика. Не просто сухарика, а три белых сухарика!!! Поверьте, в 19-м году таким сокровищем можно было поделиться разве что из-за сочувствия к чужим родам.
Вот как нас с мамой поздравили, так я и прожила всю жизнь с надеждой на три сухарика. При этом имя мне дали роскошное. Оно досталось мне от той же любимой маминой подруги, а корень в нем от моей бабушки. Мамину подругу так и звали — Мальвина, — а бабушку — Малка, что на древнееврейском означает «царица». Но ни на какую роскошь в этой жизни я уже не рассчитывала. Привыкла думать, что мы очень несчастливая еврейская семья и что все несчастья валятся на наши головы. С моей, в частности, было все ясно сразу, потому что она еще при рождении была отмечена огромной шишкой. Это безобразие с угрожающе синим оттенком перекатывалось по моей крохотной головке ото лба к затылку. Глядя на это, нужно было на что-то решаться. А поскольку моя мама любила самых лучших докторов, сапожников и портных, то пришлось продать папину шубу вместе с каракулевой шапкой, чтобы самый лучший профессор приехал и сделал мне операцию на дому.
Правда, после того, что у моих родителей отняла бомба, «на дому» — громко сказано. Хотя, наверно, все-таки можно так назвать пять комнат на окраине Одессы, сарай и собачью будку?
Мама, стоя у окошка, не спускала меня с рук. Она смотрела то на меня, то на дорогу. И вот, наконец, вдали показались дрожки. А мама с ужасом уставилась на меня. Ей казалось, она в последний раз видит меня живую, потому что она очень боялась, что хоть это и самый хваленый профессор, но не с нашим счастьем... В общем, она боялась, что он меня зарежет. Но профессор меня не зарезал. Ему не пришлось даже притронуться ко мне скальпелем, потому что мама от страха крепко прижала меня к себе: чего, видимо, шишка не выдержала и лопнула. В этот самый момент и подоспел профессор. Увидев мое окровавленное лицо, он почему-то очень обрадовался: «Вот как славно! Вот и лопнула ваша шишечка!» Протянул руку, чтобы взять деньги.
Ему их дали. Он, правда, сказал «спасибо». И тут же на этих самых дрожках уехал.
Но эта история ничто по сравнению с тем, что свалилось на нашу семью два года спустя. Я только вылезла из какой-то очередной хвори. Надо признаться, что жаловали они меня с детства подолгу и разнообразно, с учетом нынешнего апофеоза — полной слепоты. Ну, а тогда, в два года, когда мне стало чуть лучше, мама вспомнила о папиной просьбе. Уезжая на работу, папа обнаружил, что одна из наших кляч сбила подкову. Мама попросила моего старшего брата, ему тогда уже было четырнадцать, сходить в кузницу. Брат ответил, что сегодня у него праздник и что никуда он не пойдет.
До чего красив был этот ребенок! Когда после революции к нему пригласили врача, тот не мог успокоиться: выспрашивал, где настоящие родные мальчика. Когда родители отвечали, что они и есть его родные, врач морщился. Считал, что перед ним как минимум дитя голубых кровей. Ему очень хотелось, чтобы этот мальчик оказался отпрыском бежавшего генерала. Хотя и этот врач мог бы заметить, что у нас была очень интеллигентная семья, я бы даже сказала, деликатная. Она была особенной для всей Одессы. Ни ругани, ни громких слов из нашего дома не доносилось. Как сказали бы в той еще Одессе: «Никто не слышал от них горбатого слова». Кроме того, мы все говорили по-русски. И потом, судите сами, разве в каждой семье на детское «не пойду» мамы спокойно продолжают: «Как хочешь, детонька, но только папа будет обижен». И этой фразы было достаточно, чтобы мой брат передумал и вышел из дому. Но далеко он не ушел. Не мог уйти. Дело в том, что у моих братьев была одна пара сапог на двоих. Он вышел во двор, к своему младшему брату. Тот разве что не ночевал у своего друга — ровесника-соседа. У этого соседского мальчика была старшая сестра. Правда, ее дома не было, а это много чего значило. Это значило, что можно собрать компанию и делать то, что нельзя делать при взрослых. К примеру, поиграть настоящим браунингом. В те времена в Одессе у каждой приличной семьи что-нибудь настоящее, на всякий случай, имелось. Вот и сестре этого мальчика какой-то моряк оставил, на всякий случай, маленький браунинг.
Одесса, Молдаванка, начало ХХ века
Заметив моего старшего брата, дети решили его напугать. Он в калитку, они: «Руки вверх!». Брат, расхохотался, поднял руки. И тут браунинг, которым уже два года время от времени безобидно баловались, выстрелил ему прямо в висок. И через пять минут моей маме принесли мертвого ребенка. Несмотря на свое малолетство, помню, как он укрытый неподвижно лежал в своей кроватке. Он не мучился. Умер мгновенно! Но что тогда творилось с моей мамой... Она как бы сама послала его на смерть.
Приятелем нашей семьи был главный психиатр города Одессы профессор Лев Айхенвальд. Его не нужно было звать. Вести о несчастьях на нашей слободке разносились так же быстро, как и сплетни о скандалах, драках и изменах. Профессор, едва прослышав, немедленно забрал маму к себе. Он сделал так, что мама не видела похорон, а мы какое-то время не видели ее.
Не хотелось бы так грустно ставить точку на нашем еврействе. Все-таки среди нас оказалось одно существо, которому оно крупно помогло. Жил у нас черный кабан по кличке Васька. Огромный, и не потому, что не кастрированный. Этого Васьки хватало на всю свинскую округу. Так вот — этот здоровяк, этот завидный жених — возьми и заболей чумкой. По тем временам чумка звучала как смертельный приговор. Мама решила, что терять ему уже нечего, а попробовать можно. И поступила с ним так, как это делают по еврейскому обычаю с людьми. Во время болезни им дают второе имя. И назвала его Хаим-Бер.
Буквально через два дня совсем не Васька, а уже Хаим-Бер бегал по двору в поисках, чего бы пожрать. Просто чудо, но он был первой свиньей на нашей слободке, которая одолела чумку!
Где это видано, чтоб не блондинка, а тихая невысокая брюнетка, да еще и без «цицек», стала актрисой?
На сцену я впервые взобралась лет в шесть. И, вовсе не помышляя стать актрисой, заработала себе комедийное амплуа. Спасибо верзиле Абраму. «Какое отношение к театру и комедии имеет Абрам?» — спросите вы. Никакого! Ко мне — непосредственное! Хотя этот парень был всего лишь приемным сыном моего отца, добродушным простаком, к тому же нашим кучером. А вот как он попал в наш дом — это отдельная история.
Как-то мой папа, идя по улице, заметил рыдающую женщину с четырьмя детьми и свертком в руке. Остановился. Расспросил. Оказалось, умер кормилец, а хозяин выгнал их из дому. Папа тут же забыл, куда шел. Вернулся домой. Да не один. Мама, конечно же, встревожилась: «Кто такие?»
Папины объяснения не успокоили маму. Скорее — наоборот:
— Боже мой! — воскликнула она. — Так тебя теперь нельзя выпускать из дому! Если ты только вышел и взял на свою шею пять случайных прохожих.
— А что, надо было, не обращая внимания, пройти мимо? — обиделся папа.
— Нет, почему же, дал бы им денег. Ты подумал о собственных детях? Как ты собираешься прокормить всю эту ораву?
На что папа спокойно пообещал:
— С них хватит и того, что ты выбрасываешь. А из четырнадцати комнат две, я думаю, этим детям ты как-нибудь уступишь.
Мама, конечно, сильно расстроилась, но согласилась. Она была очень доброй женщиной.
Так неожиданно у нас поселился и Абрам. Он как раз и был тем, что поначалу моему папе показалось всего лишь свертком. А в 1919 году эти дети совсем осиротели. Их мать умерла от болезни, которая, как мне помнится, называется столбняком. Как будто мама что-то знала, дети полностью «повисли» на шее моих родителей. Абрам прожил с нами дольше всех: только потому, что был самым младшим, то есть он последним из всей оравы женился. Так что Абрам успел принять активное участие в жизни нашей семьи. Он рос до такой степени преданным и переживательным мальчиком, что не раз пугал мою маму.
Как-то маленький Абрамчик прибежал в слезах:
— Тетя Люба, теть Люба! Бедный дядя! Его яйца разбились.
Мама была женщиной умной, и не стала сходу разделять с Абрамом его горе, а попыталась узнать, о каких яйцах идет речь и где именно они разбились. Но Абрам так волновался, что был не в силах продолжать разговор. Все, что мог, — это рыдая тащить маму за рукав. Таким образом он выволок ее из дому и показал сваленную бурей скворечню. Рядом с ней мама увидела те самые разбитые «дядины» яйца и застывшую над ними скворчиху.
Мой папа патологически жалел все живое. В нашем дворе росло два вековых дерева, а уж сколько скворечен на них торчало, трудно припомнить.
А Абрам, даже став великаном, в своем добродушии далеко не ушел от моего невысокого папы. Когда он брал меня на руки и сажал на свои богатырские плечи, мне казалось, что я сижу под самым небом. Не подумайте, что он только мне, маленькой, казался великаном. Представьте себе, что это были за плечи, если он лошадь надевал на них, как горжетку! Руками держал копыта до тех пор, пока кузнец не подкует их. Отнюдь не цирковые номера. Он выделывал такое, только если лошадь брыкалась и мешала работать кузнецу. И вот насколько Абрам был великаном, настолько он был славным добряком. Он мог одним мизинцем свалить моего брата, но он его и пальцем не тронул. Хотя то, что позволял себе мой братец, заслуживало, чтобы хотя бы разок хорошенько набить ему морду.
Как-то у меня на глазах брат залепил Абраму лицо липучкой, усеянной мухами. А однажды, я лично видела, как он надел Абраму на голову ночной горшок. Абрам хоть бы что. Безропотно сносил шалости хозяйского сына. Я вспоминаю это, чтоб вы понимали, что за чудо был наш верзила Абрам. И мне от его доброты немало перепало.
Как-то Абраму поручили свезти из Одесского ломбарда на свалку сгнившие кроличьи шкурки. Но ему взбрело в голову, что сначала эти шкурки нужно показать моей маме. Надо отдать должное и маме: она тут же нашла им применение. Отобрала беленькие, что покрепче, и пошила мне длинную шубку с капюшоном. Да так пошила, что когда я ее надевала, догадаться, что я не дочь миллионера, можно было только по выглядывающим носам ботинок. Детские ботинки в ломбард тогда не сдавали. А жаль, в 1926 году достать их было негде.
О моем сомнительном наряде знала только мама. Поэтому билеты в театр она нам брала в разных местах. Не для того, чтобы мне из первых рядов было лучше видно, а чтобы мы сидели подальше друг от друга. Поэтому когда детей позвали на сцену читать стихи, мама помешать мне уже никак не могла. Раз я вспомнила о кроличьих шкурках, значит, дело было зимой. В 1926 году в театре совсем не топили. Я выбежала, в чем сидела, то есть в своей великолепной шубке с капюшоном. И, наверно, потому что показалась самой маленькой, была подхвачена на руки Брылем, режиссером дневных спектаклей. Я прочла какой-то стишок, но аплодисменты и смех заслужила потом, когда режиссер спустил меня с рук и все увидели, что его черный фрак сделался белым.
Мама же сделала вид, что я не ее дочь, и никакого значения моему успеху не придала. Надо признаться, что и Абраму за его заслуги похвал не досталось.
Обидно, но первое мое выступление так и не оставило ни у кого глубоких следов. Думаю, и режиссер отряхнулся и забыл. А вот после второго моего публичного успеха мама убегала гораздо быстрее. Случилось это на ленинские дни. Мне было лет шесть. Мы с мальчиком выучили стихотворение, которое начиналось так:
Тираны мира, трепещите!
Не умер Ленин, Ленин — жив.
Вы нас, вы нас не победите.
Живет в нас ленинский порыв.
Нас с этим мальчиком поставили на авансцену. Сбоку сидел президиум. Ну и потому (так нас выучили) мы повернулись к президиуму и, угрожающе размахивая в их сторону кулачками, заорали: «Тираны мира, трепещите!» Остальные три строки утонули в хохоте зала. Мама испугалась: а вдруг, невзирая на наше малолетство, нас арестуют! Схватила за воротники и уволокла проходными дворами. Домой, от греха подальше. На этом мое актерство надолго закончилось. Началась школа.
В школе я выглядела такой тихонькой девонькой, что даже на Вербное воскресенье мальчишки не били меня по ногам вербой. Даже не знаю, почему. То ли боялись перебить мои синие ножки, скорее похожие на две веревочки, чем на девичьи ноги, то ли просто хорошо ко мне относились. Как бы там ни было, но меня жалели, потому что других девчонок лупили вербой нещадно. И учителя меня, очевидно, тоже жалели, ведь училась я плохо, а они, несмотря на это, ставили мне хорошие оценки. К примеру, по химии, окончив седьмой класс, я знала только, что обозначает Н2О, и то на веру. О других химических символах даже не пыталась узнать. Зато какая трагедия произошла со мной, когда пришел новый учитель по географии и поставил мне «тройку». От его справедливости неделю прорыдала. Правда, рыдая, начала учить географию. Он вызвал снова, послушал, удивился и поставил «отлично». А дальше с ним случилось то, что до этого происходило со всеми остальными учителями: он беспричинно продолжал ставить мне «отлично» до самого конца учебы, то есть до седьмого класса. До седьмого, потому что восьмого на нашей Красной слободке не было и открывать его для детей рабочих никто не собирался.
Чтобы продолжать учиться в школе, мне пришлось ездить на небезызвестную всем Молдаванку. Только, как выяснилось, меня там никто не ждал. Я была слободская девка, а они, мои новые одноклассники, были молдаванскими «аристократами». Если кто не знает, что в 30-х годах представляла собой Молдаванка, объясню: в Одессе это был самый бойкий торговый район. Именно на Молдаванке припеваючи жили разные там спекулянты, гадалки, парикмахеры, фотографы и портные. Так что неудивительно, что дети этих энергичных родителей меня не признали, а детей рабочих и интеллигентов в том классе я не встретила. Это потом уже на Молдаванке повырастали Утесов и другие приличные люди.
Ладно, меня молдаванские дети не признали. Это было полбеды. Беда, что меня, как чужачку, усадили на последнюю парту. Откуда ни я из-за своего скромного росточка ничего не видела, ни учительнице меня видно не было. Сидя за этой партой, я поняла, что учиться на Молдаванке мне не надо. Решила: не отсиживаться же так до десятого класса. Оставалось не выделоваться, а как положено слободским — идти на рабфак. Рабфак тогда для детей из рабочих семей был той первой ступенькой, которая могла приблизить их к интеллигенции. После рабфака охотнее брали в институт.
Но так как я болела чаще, чем бывала здорова, то заявление за меня подала моя подружка. А другая подружка совратила, чтоб не терять зря время до начала занятий на рабфаке, подать заявление на бухгалтерские курсы. Как это ни странно сейчас звучит, но в качестве бухгалтера я подавала большие надежды. Наверно, даже гораздо большие, чем актриса. И возможно, стоило мне призадуматься и стать бухгалтером, но судьба распорядилась иначе.
На курсы меня зачислили. На рабфак, по словам подружки, приняли, но тут нелегкая принесла нашу соседку, Марию Афанасьевну. Хотя «нелегкая» — безбожно говорить об этой женщине. Это была определенно верующая женщина. Еврейка. Правда, выхристка: она была замужем за регентом церкви. Имея такого мужа, она считала, что кругом права, и если она кому-то давала советы, так этот кто-то должен был их принимать. С этим она и пришла к моей маме и спросила:
— Любовь Ароновна, а кем будет ваша Малечка?
Мама, не предполагая, какую это может вызвать бурю, спокойно ответила:
— Она будет врачом.
— Придумали ж такое! Нет! Как вам это нравится? Каким таким врачом? — возмутилась Мария Афанасьевна.
— Вас что, не интересует мнение Иван Петровича? А ведь вам должно быть прекрасно известно, что мой Иван Петрович в этом деле соображает. Он слышал, как ваша Малечка в третьем классе читала стихотворение. А помните, как ей долго аплодировали? Так он еще тогда сказал, что из Малечки выйдет настоящая актриса! Вы сами должны понимать, раз он столько лет руководит церковным хором, так какой у него должен быть на это слух! Уж если мой Иван Петрович сказал, так оно и будет! Ваша Малечка просто обязана поступать в театральное училище.
На что мама только вскинула брови и рассмеялась, потому что в ее понимании актриса, а так оно до революции и было, должна была быть: высокой, полногрудой, с узкой талией, надменным взором и низким голосом.
А вслух продолжила свою мысль:
— Ну что вы, Мария Афанасьевна! Посмотрите сами на нашу Малечку. Какая из нее актриса? Этой фигли малой на сцене даже видно не будет.
Мария Афанасьевна то ли сделала вид, что не расслышала этой реплики, то ли просто была не в силах терпеть возражения. Да и с какой стати она должна была их терпеть, если у них давно все было насчет меня решено. О чем она, собственно, и предупредила маму:
— Дело в том, что Вы еще не все знаете. Посмотрите на меня, я, по-вашему, похожа на малахольную? Моя дочь Любочка работает секретарем театрального училища. Так она сделает все, чтоб ваша Малечка поступила. В январе у них собираются устроить дополнительный набор на экспериментальный русский курс. Вы только посмотрите, как все благополучно складывается для вашей Малечки! Тем более, что у брата директора этого самого училища большие виды на мою Любочку. Так что не волнуйтесь, наша девочка обязательно поступит.
Зная свою маму, могу предположить: она решила не тратить силы на бессмысленные пререкания. Провожая соседку, со свойственной ей доброжелательностью всего лишь заметила:
— Это хорошо, что за вашей Любочкой ухаживает брат директора театрального училища.
Уверена, наши соседи эту фразу расценили по-своему, потому что в следующий раз уже ни к маме, а ко мне забежала та самая Любочка, за которой ухаживал брат директора — того самого театрального училища, и, отдышавшись с порога, выпалила:
— Значит так, Малька, учи басню, стихотворение и бегом пиши заявление.
Я стала отнекиваться, мол, кому я там нужна, позориться неохота, заявления писать не стану.
Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.
На жаль, цей розділ недоступний у безкоштовному уривку.