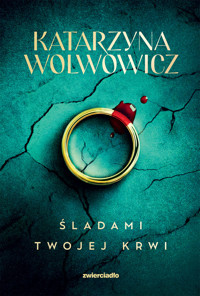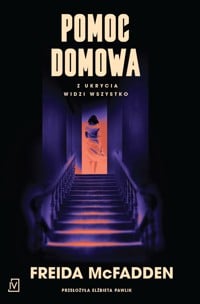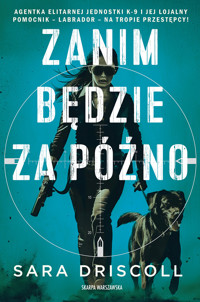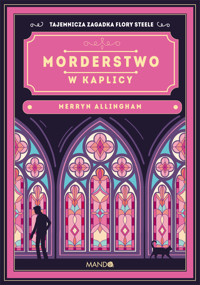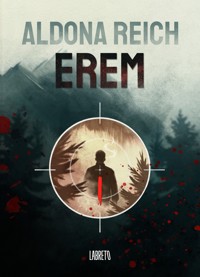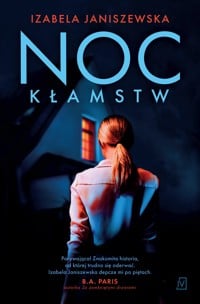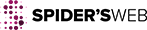Oferta wyłącznie dla osób z aktywnym abonamentem Legimi. Uzyskujesz dostęp do książki na czas opłacania subskrypcji.
14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,99 zł
Zbieraj punkty w Klubie Mola Książkowego i kupuj ebooki, audiobooki oraz książki papierowe do 50% taniej.
Dowiedz się więcej.
Раскрыть жуткое тройное убийство миллионеров; отыскать след преступника там, где все улики указывают на самоубийство; разобраться в запутанном деле о таинственных смертях поклонников очаровательной леди; с блеском решить головоломку похищения редких и неимоверно дорогих золотых рыбок; найти сэра Артура Водри, который исчез в собственном поместье — у преступников нет шансов выйти сухими из воды, когда за дело берется отец Браун.
Ebooka przeczytasz w aplikacjach Legimi na:
Liczba stron: 1370
Podobne
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2020
ISBN 978-617-12-7486-0 (epub)
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Электронная версия создана по изданию:
Уважаемые правообладатели!
Мы приняли все возможные меры, чтобы найти вас и договориться о приобретении прав на использование в нашей книге переведенных вами текстов. Однако информация по этому вопросу отсутствует.
Пожалуйста, по вопросам предъявления авторских прав на перевод размещенных в книге текстов обращайтесь в издательство «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» (тел. 057-783-88-89).
Вступительная статьяН. Трауберг
Дизайнер обложкиАнастасия Попова
ҐілбертКіт Честертон є одним із видатних представників детективної літератури ХХ ст. Його численні романи стали класикою, але особливоїпопулярності Честертон набув за свої оповідання про отця Брауна. Цей тихий і спокійний священик не будує великих теорій і не намагається навернути злочинця на праведну путь, але з властивою йому іронією ймайстерністю розкриває найзаплутаніші справи. Витончений гумор, незвичайні методи розслідування, яскравіперсонажі не залишать байдужим і досвідченого читача.
До цієї збірки творів увійшли найкращі оповідання Честертона про отця Брауна.
Честертон Г. К.
Ч-51 Все тайны отца Брауна : рассказы/Гилберт Кит Честертон ; вступит. статья Н. Трауберг. — Харьков : КнижныйКлуб«КлубСемейногоДосуга», 2020. — 832 с.
ISBN 978-617-12-7133-3
Гилберт Кит Честертон — один из крупнейших представителей детективной литературы ХХ в. Его многочисленные романы стали классикой, но особую популярность Честертону принесли рассказы об отце Брауне. Этот тихий и спокойный священник не строит великих теорий и не пытается наставить преступника на путь истинный, но с присущей ему иронией и изяществом раскрывает самые запутанные дела. Тонкий юмор, необычные методы расследования преступлений, яркие персонажи не оставят равнодушным и искушенного читателя.
В данное собрание сочинений вошли лучшие произведения Честертона об отце Брауне.
УДК 821.111
© Перевод Н. Трауберг, наследники, 2013
© Перевод Р. Облонская, наследники, 2013
© Перевод В. Хинкис, наследники, 2013
© Перевод И. Бернштейн, наследники, 2013
© DepositPhotos.com / Marisha, miroslav_1,andrewroland, palinchak, Veneratio, обложка, 2020
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,художественное оформление, 2020
Печаль отца Брауна
Честертон выходит обычно с какой-нибудь аннотацией. Они меняются. Готовя первое свободное издание, худлитовский трехтомник 1990 года, пришлось писать очень много, восполняя то, что раньше скрывали. Теперь можно обойтись без ликбеза — есть где почитать и о Честертоне, и о христианстве. Однако в многочисленные статьи вошло не все, о чем стоит подумать, если взялся за этого странного писателя. Странный он не потому, что «эксцентричный». Ни эксцентрика, ни склонность к игре уже никого не удивляют. Писатели последних десятилетий намного превзошли в этом Честертона, но строчка из стихотворного письма Мориса Бэринга так же верна, как и в 1907 году:
Таких, как вы, в Европе больше нет.
Сменились сотни мод и традиций, но «таких» по-прежнему нет даже среди прославленных апологетов христианства, писавших позже, чем он. Если сопоставить его хотя бы с К. С. Льюисом, почувствуешь, что Льюис поприличней, посерьезней, можно сказать — повзрослей.
При всей любви к Льюису, Дороти Сэйерс, Чарльзу Уильямсу я вынуждена признать, что Честертон резче и явственней их всех противостоит стереотипам «мира сего». Не случайно его сравнивают и с юродивыми, и с блаженными в евангельском смысле слова. Одно из обычных для него несоответствий «миру» — сочетание свойств, которые считают несовместимыми и даже противоположными. Собственно, весь брауновский цикл стоит на сочетании простодушия с мудростью.
Не случайно первый сборник называется «The Innocence of Father Brown», второй — «The Wisdom of Father Brown», а биография Честертона, написанная Джоном Пирсом, — «Wisdom and Innocence».
Сочетание это исключительно важно. Для Честертона оно было открытием. В 1904 году он встретился у общих знакомых с отцом Джоном О’Коннором. Какие-то молодые люди, снисходительно признавая достоинства веры, сокрушались о том, что священники не знают темных сторон жизни. Позже Честертон пошел гулять со священником и был поражен тем, какие глубины зла тот знает. В первом же рассказе об отце Брауне про это сказано так:
«Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают».
Название первого сборника переводили по-разному в 1920-х годах. Были и «Простодушие», и «Невинность». Слово innocence содержит эти значения, но теперь привилось «Неведение»1, может быть — чтобы подчеркнуть линию, противоположную мудрости.
Однако сейчас я хотела поговорить о другом сочетании свойств, не главном для цикла, но тоже очень важном. В церковнославянском языке есть слово «радостоскорбие». Честертону оно бы очень подошло.
Принято считать его оптимистом. Об этом сейчас говорить не буду, он сам неоднократно отвечал на такие обвинения. Но все-таки его, а не кого-нибудь другого называют «Учителем надежды».
Мы уйдем далеко, уточняя различие между бодрым, бесчувственным невниманием к скорби и злу и такой по-христиански странной добродетелью, как надежда. Сейчас подчеркнем одно: жизнерадостность Честертона достаточно заметна. Многих она раздражает. Одни не верят ей, другие — завидуют, третьим она кажется кощунственной, что было бы правдой, если бы он был кем-то вроде сэра Аарона из «Трех орудий смерти». Но вот что, к большой нашей радости, пишет он в этом рассказе:
«— Как? — вскричал Мертон. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?
— Это жестокое исповедание, — сказал священник. — Почему бы ему не поплакать, как плакали его предки?»
Сам Честертон знал печаль, а может быть — и плакал. Во всяком случае, он напоминает в одном эссе о том, что и в Писании, и в истории мужчины слез не стыдились. Плакал ли отец Браун, мы не знаем, но бодрячком он точно не был. В отличие от многих наших неофитов, он не путал с радостью то, что Честертон назвал «оскорбительным оптимизмом за чужой счет».
Чтобы рассказать о том, когда и почему он печалился, попробую сперва немного отойти в сторону.
Самый прочный предрассудок религиозных людей связан с тем, что называют «непротивлением злу». Слова эти подсказывают уничтожающий ответ: а что же, по-вашему, христиане злу не противятся? По-видимому, согласиться с тем, что неприятие зла и насильственная борьба с ним — не одно и то же, слишком неудобно. Действительно, тело отдадут на сожжение, а от «добра с кулаками» не откажутся.
Кто не слышал, с каким наслаждением рассказывают о том или ином возмездии? Кроме прямого зла — злорадства, здесь есть и резонная тяга к справедливости, но толкуется она и решается совершенно по-мирски, словно нет ни притчи о плевелах, ни беседы в самарянском селении. В тех слоях сознания и подсознания, где живут удобные стереотипы, получается примерно вот что: или тебе безразлично зло, или ты борешься с ним так, словно в 10 главе от Матфея сказано не «овцы», а «волкодавы». Равнодушия к злу у Честертона и отца Брауна вроде бы нет. Зачем неуклюжий и тихий священник вмешивается во все эти дела, если зло ему безразлично? В его реакции иногда слышишь гнев (не злобу!), но особенно сильна в ней печаль. Редко встретишь такое точное изображение печали, прямо противоположной ее подобиям, от каприза до отчаяния, как в рассказе «Око Аполлона»: «Отец Браун сидел тихо и глядел в пол, словно стыдился чего-то», «морщась как от боли».
Пока он так сидит, сюжет движется, преступник обнаружен, и вдруг на вопрос друга: «Схватить его?» — «Нет, пусть идет, — сказал отец Браун и вздохнул так глубоко, словно печаль его всколыхнула глубины Вселенной. — Пусть Каин идет, он — Божий».
Очень полезно посмотреть рассказы, замечая, что делает с преступником отец Браун. Герой «Ока» ужасен, абсолютно уверен в себе, и священник предоставляет его Богу. Обычно же, когда преступление совершил заблудший человек, на месте которого отец Браун может представить себя, он или отходит в сторону, или беседует с ним, как с почтальоном в «Невидимке» или вором в «Алой луне Меру». Беседа с «невидимкой» — длинная, они долго гуляют, вора из «Луны» удается привести к покаянию как-то уж очень быстро, но здесь мы священника не слышим. Лучше всего, если его слова нам доступны, как проповедь в саду, снизу вверх — Фламбо сидит на дереве («Летучие звезды»).
Иногда наказание предполагается — например, сам Браун приманил к Фламбо сыщика и полицию. Кстати, здесь очень заметно одно свойство Честертона: там, где логика ему не нужна, он от нее отмахивается. Читатель может угадать сам, отсидел ли Фламбо прежде, чем встретиться с патером Брауном в «Странных шагах» или в тех же «Звездах». Догадаться же, почему он не узнает человека, с которым в «Сапфировом кресте» провел целый день, вообще невозможно.
Кое-кого отец Браун спасает от наказания (например, в «Небесной стреле»), но это не главное. Наказан преступник по земному закону или не наказан, священник стремится к тому, чтобы он переменился, покаялся. Остальное он с евангельской легкостью предоставляет другому суду. Легкость эта — не удобство, небрежение или легкомыслие. Она настолько же труднее мирской тяжести, как хождение по воде труднее хождения по суше. Однако это именно легкость. Отец Браун не падает под грузом зла. Он приветлив и прост — перечитайте, как один из персонажей «Воскресения» вспоминает, видя его, самые скромные, связанные с детством, вещи. Честертоновский священник неуклюж (иногда напоминания об этом назойливы), но он никогда не бывает «нервным». В «Поединке доктора Хирша» мы словно подглядываем, как он ест в уличном кафе, и соглашаемся с определением «непритязательный эпикуреец». Знание зла вызывает в нем очень глубокую печаль, но не ведет к болезненной искалеченности.
Сам Честертон был не совсем таким. В нем оставалась подростковая воинственность, правда только в спорах, безукоризненно рыцарских. Он тоже неуклюж, но иначе. В конце концов, отец Браун — маленький, а он — «человек-гора». Несмотря на размеры, Честертон «прыгуч и прыток» (так выразился он в «Маске Мидаса»), причем в пожилые годы эта манера объяснялась не столько радостью жизни, сколько доброжелательством, а можетбыть — застенчивостью. Во всяком случае, печаль он знал — и чисто христианскую, о мире, и обычную, из-за потерь и болезней. Однако своему любимому герою он дал не прыгучесть, а неловкость, высвечивая его смирение на фоне самодовольного мира.
Кроткие они оба. Честертон вообще был резок три раза в жизни: когда при нем обидели служанку, когда обидели секретаря и только один раз эгоистично, «по-человечески». Вспоминает об этом именно О’Коннор. Они близко дружили уже восемь лет, вышли два брауновских сборника, и вот — вечером, в саду — Честертон обо что-то споткнулся. О’Коннор поддержал его, он сердито вырвался — и упал, даже вывихнул руку. Стоит ли говорить, что он радовался скорому возмездию?
Отец Браун огражден волей автора от таких грехов и соблазнов. Если он повышает голос, значит, Честертон именно этого хотел. Случается это очень редко. В «Небесной стреле» он спорит с более сильными, в «Последнем плакальщике» тоже, но, главное, в его голосе много глубокой печали. Кажется, чистый случай гнева — один, «На скорую руку», но там, как бывало в 1930-е годы, Честертон вводит в его речь почти политический мотив. Священник при этом теряет то, к чему мы привыкли, это как будто не совсем он.
Но тут мы выходим к другим темам, которых, Бог даст, тоже коснемся. Пока же я хотела бы сделать прямо противоположное, а именно — подсказать, что «innocence — wisdom» и «мирная радость — печаль» говорят об одном и том же.
Н. Л. Трауберг
1 Предложила его Раиса Померанцева, редактор сборника 1958 года.
Сапфировый крест
Между серебряной лентой утреннего неба и искрящейся зеленой лентой моря к Хариджскому причалу пристал пароход. Он выпустил на берег беспокойный рой темных фигур, и человек, за которым мы последуем, ничем не выделялся среди них... Да он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания, кроме, разве что, некоторого несоответствия между нарядностью выходного костюма и официальной строгостью лица. Одет он был в легкий светло-серый пиджак, белый жилет и соломенную шляпу серебристого цвета с пепельно-голубой лентой. Из-за светлой одежды тощее лицо его казалось темнее, чем оно было на самом деле. Короткая черная бородка мужчины придавала ему определенное сходство с испанцем и одновременно наводила на мысль о гофрированных круглых воротниках елизаветинских времен. С сосредоточенностью человека, которому нечем заняться, он курил сигарету. Глядя на него, никто не догадался бы, что под светлым пиджаком скрывается заряженный револьвер, в кармане белого жилета — удостоверение полицейского, а под соломенной шляпой — один из величайших умов Европы, ибо это был сам Валантэн, глава парижской полиции и самый знаменитый сыщик в мире. Он направлялся из Брюсселя в Лондон, чтобы произвести там самый громкий арест века.
Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец смогла выследить великого преступника, который из Гента переехал в Брюссель, а из Брюсселя перебрался в Хук ван Холланд. Было решено, что он захочет воспользоваться суматохой, вызванной евхаристическим конгрессом, чтобы осесть в Лондоне. Вероятно, он мог путешествовать под видом какого-нибудь неприметного церковнослужителя или секретаря, приехавшего на съезд духовенства, впрочем, полной уверенности в этом у Валантэна, разумеется, не было. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда речь идет о Фламбо.
Прошло уже много лет с тех пор, как этот колосс преступности неожиданно перестал держать мир в волнении; и когда он затих (поговаривают, причиной тому была смерть Роланда), на земле воцарилось великое спокойствие. Но в лучшие свои дни (я конечно же имею в виду его худшие дни) Фламбо был велик и повсеместно известен не меньше, чем кайзер. Почти каждое утро газеты приносили весть о том, что новое дерзкое преступление позволило ему избежать преследования за предыдущее. Это был отчаянный гасконец огромного роста и богатырского сложения. О шутках этого атлета ходили самые невероятные легенды. Рассказывали, как однажды он перевернул следователя вверх ногами и наступил ему на голову ногой, «чтобы прочистить ему мозги»; как он бежал по Рю де Риволи, неся под мышками по полицейскому. Правда, справедливости ради нужно сказать, что огромную силу свою он пускал в ход чаще всего для подобных бескровных, хоть и унизительных для жертвы выходок; он был вором и крал изобретательно и с размахом. Каждая его кража могла стать новым грехом и была настолько неповторима, что заслуживала того, чтобы посвятить ей отдельный рассказ. Это он организовал в Лондоне знаменитую «Тирольскую молочную компанию», которая не владела ни молочным хозяйством, ни коровами, ни транспортом, ни молоком, зато имела около тысячи подписчиков. Их он обслуживал очень простым способом: собирал по улицам стоящие под дверьми маленькие молочные бидоны и расставлял их у порогов своих клиентов. Это ему удавалось вести довольно оживленную и откровенную переписку с одной юной леди, вся почта которой перехватывалась и проверялась. Для этого он придумал поразительно ловкий прием: фотографировал свои послания через микроскоп и посылал ей фотографии, уменьшенные до крошечных размеров. Многие его проделки отличала удивительная простота. Говорят, что как-то раз под покровом ночи он перекрасил номера всех домов улицы лишь для того, чтобы заманить в ловушку свою очередную жертву. Доподлинно известно, что это Фламбо изобрел переносные почтовые ящики, он расставлял их в пригородах на тихих улочках в расчете на то, что какой-нибудь случайный прохожий опустит туда почтовый перевод. Помимо всего прочего, он был изумительным акробатом; несмотря на большой рост и могучую фигуру, прыгал он, как кузнечик, и мог взобраться на любое дерево не хуже обезьяны. Поэтому великий Валантэн, отправляясь на поиски Фламбо, не сомневался, что приключения его не закончатся, когда он его разыщет.
Но как его найти? Этого великий сыщик еще не решил.
Фламбо был мастером по части грима и маскировки, но в его внешности было такое, чего он не мог скрыть, — это необыкновенный рост. Если бы острый глаз Валантэна углядел высокую торговку яблоками, высокого гренадера или даже подозрительно высокую герцогиню, он мог бы незамедлительно арестовать их. Но среди пассажиров поезда, на который он сел, не было никого, похожего на переодетого Фламбо больше, чем замаскированная кошка может походить на жирафа. В своих попутчиках с парохода он не сомневался, тех же, кто сел в поезд в Харидже или подсаживался на промежуточных станциях, было всего шестеро. Это коренастый железнодорожный служащий, едущий до конечной станции, три невысоких огородника, подсевших на третьей остановке, одна вдова совсем маленького роста, направляющаяся в Лондон из какого-то крохотного эссекского городка, и такой же низкорослый католический священник, едущий из какой-то крохотной эссекской деревушки. Увидев последнего, Валантэн махнул рукой и чуть не рассмеялся. Этот маленький священник был живым воплощением скучных серых долин востока Англии, которые проплывали за окном. Лицо у него было круглое и бесцветное, как норфолкская лепешка, а глаза — пустые, как Северное море, он с трудом удерживал несколько коричневых бумажных свертков и пакетов, которые то и дело норовили выпасть у него из рук. Евхаристический конгресс наверняка сорвал с насиженных мест множество подобных существ, слепых и беспомощных, как крот, которого вытащили из норы. Валантэн по-французски сурово относился к религии и священников не любил. Однако ничто не мешало ему испытывать к ним жалость, а этот мог вызвать жалость у кого угодно. У него с собой был большой потрепанный зонтик, который постоянно падал на пол, он, похоже, даже не знал, что ему делать с билетом. С простодушием идиота он всем рассказывал, что ему нужно быть осторожным, потому что в одном из коричневых бумажных пакетов он везет с собой что-то, сделанное из «чистого серебра с голубыми камнями». Это удивительное смешение эссекского простодушия с воистину святой простотой удивляло француза всю дорогу до Тоттнема, где священник со всеми своими свертками наконец сошел (кое-как) и вернулся за позабытым зонтиком. Снова увидев его в вагоне, Валантэн был даже так добр, что посоветовал ему не рассказывать всем вокруг о серебре, если хочет доставить его в целости и сохранности. Впрочем, с кем бы Валантэн ни разговаривал, бдительности он не терял, и глаза его внимательно рассматривали любого, богатого или бедного, мужчину или женщину, чей рост был близок к шести футам, поскольку рост Фламбо был шесть футов четыре дюйма.
Как бы то ни было, на вокзале Ливерпуль-стрит он сошел в полной уверенности, что пока что не пропустил преступника. Потом он съездил в Скотленд-Ярд официально оформить свое пребывание в городе и договориться о том, чтобы в случае необходимости ему предоставили помощь. Выйдя из полицейского управления, он закурил очередную сигарету и отправился бродить по Лондону. Прохаживаясь по улицам и площадям позади Виктории, он неожиданно остановился. Перед ним была старая тихая, словно застывшая, типично лондонская площадь. Высокие плоские дома вокруг казались одновременно богатыми и необитаемыми. Площадка с кустами в самой ее середине напоминала затерянный в Тихом океане зеленый островок. Одна из четырех сторон площади была значительно выше остальных, как кафедра в зале, и эта ровная линия разбивалась зданием, которое казалось здесь совсем не к месту, но придавало всей площади особое очарование. Это был ресторан, выглядевший так, словно каким-то образом случайно переместился сюда из Сохо. Карликовые растения в горшочках, длинные белые в лимонно-желтую полоску шторы — чужеродной красотой своей дом этот притягивал к себе взгляд. Он возвышался над всеми остальными зданиями, и высокая лестница, ведущая к парадной двери, чуть ли не на уровне второго этажа, очень напоминала пожарный выход — еще одна типично лондонская нелепость. Валантэн долго стоял перед этим зданием, он курил и рассматривал полосатые занавески.
Самое удивительное в чудесах то, что иногда они случаются. Несколько облаков на небе могут сложиться в форме человеческого глаза. Во время утомительного и скучного путешествия можно увидеть одинокое дерево, выделяющееся на фоне пустынного пейзажа, точно как вопросительный знак. Я сам не так давно видел и то и другое. Нельсон умирает в миг победы, а человек по фамилии Вильямсон совершенно случайно убивает человека, фамилия которого — Вильямсон... Звучит как отчет о детоубийстве. Короче говоря, в жизни есть место чудесному совпадению, которое может постоянно ускользать от людей прозаического склада ума. Как прекрасно сказано в парадоксе По, мудрость должна полагаться на непредвиденное.
Аристид Валантэн был настоящим французом, а ум француза — это чистый ум и ничего больше. Нет, он не был «мыслящей машиной», поскольку это бессмысленное понятие — не более чем выдумка современных фаталистов и материалистов. Машина является машиной как раз потому, что не может мыслить. Он был мыслящим человеком, при этом прямым и простым. За его поразительным успехом, казавшимся настоящим чудом, стояла обычная четкая французская мысль и железная логика. Французы удивляют мир не парадоксами, а воплощением в жизнь азбучных истин. Они доводят их до... Вспомните Французскую революцию. Но именно поскольку Валантэн понимал, что такое разум, он понимал и пределы разума. Только человек, не знающий ничего о машинах, может говорить о езде без горючего; только человек, не знающий ничего о разуме, может говорить о мышлении, лишенном крепких фундаментальных предпосылок. Сейчас у Валантэна крепких предпосылок не было. В Харидже Фламбо не обнаружился, и если он и находился в Лондоне, то мог быть кем угодно, от долговязого бродяги в Уимблдон-коммон до высокого распорядителя застолья в гостинице «Метрополь». Для таких ситуаций, как эта, когда совершенно непонятно, в какую сторону направляться дальше, у великого сыщика имелся особый метод.
В подобных ситуациях он полагался на случай. Когда действовать разумно было нельзя, он спокойно и методично действовал безрассудно. Вместо того чтобы ходить по «правильным» местам (банки, полицейские участки), встречаться с нужными людьми, он начинал ходить по местам «неправильным», заходил в каждый попавшийся на дороге пустой дом, осматривал каждый cul-de-sac2, не пропускал ни одной грязной, заваленной мусором улочки, сворачивал во все закоулки, которые бесцельно уводили его в сторону. И на это безумство у него было вполне логическое объяснение. Он говорил, что, если след есть, это худший путь, если же следа нет — это лучший путь, поскольку оставался шанс, что, если что-то необычное привлекло внимание преследователя, оно точно так же могло привлечь внимание преследуемого. Откуда-то ведь нужно начинать, и лучше начинать с того места, где другой мог остановиться. Что-то в крутизне лестницы, ведущей к двери, что-то в спокойствии и необычности ресторана тронуло сыщика за душу, и он решил действовать наудачу. Он поднялся по лестнице, сел за столик у окна и заказал чашечку черного кофе.
Было позднее утро, а он еще не завтракал, о чем ему напомнили остатки чужого завтрака на соседнем столике. Добавив к заказу яйцо-пашот, он стал рассеянно сыпать в кофе белый сахар, думая о Фламбо. Валантэн вспоминал, как Фламбо удавалось уходить от преследования: один раз он использовал для этого маникюрные ножнички, а в другой раз поджег дом; однажды сослался на то, что ему нужно заплатить за письмо без марки, и улизнул прямо из-под носа, а как-то собрал толпу желающих посмотреть в телескоп на комету, которая могла уничтожить Землю. Глава парижской полиции не сомневался, что его сыщицкий мозг ничем не хуже мозга преступника, и был прав, но при этом четко осознавал разницу. «Преступник — творец, сыщик — всего лишь критик», — подумал он, горько улыбнулся и медленно поднес чашку кофе к губам и тут же опустил. Вместо сахара он насыпал в напиток соль.
Валантэн посмотрел на сосуд, из которого взял белый порошок. Вне всякого сомнения, это была сахарница. Точно так же предназначенная для сахара, как коньячная бутылка предназначена для коньяка. Почему же в нее насыпана соль? Осмотрев стол, он увидел другие привычные сосуды. Да, вот две солонки, обе полны до краев. Может быть, приправы, находящиеся в солонках, чем-то отличаются? Попробовал — сахар! После этого он со значительно возросшим интересом осмотрелся кругом: нет ли здесь других следов столь оригинального художественного вкуса, который заставил кого-то насыпать сахар в солонки, а соль — в сахарницу? Если не обращать внимания на странное пятно какой-то темной жидкости на белых обоях, ресторан казался самым обычным, чистым и уютным местом. Позвонив в колокольчик, он подозвал официанта.
Когда служитель — растрепанный, со слегка затуманенными в столь ранний час глазами — торопливо подошел, сыщик (который был не чужд простейших форм юмора) попросил его попробовать сахар и сказать, соответствует ли он высокой репутации заведения. Это привело к тому, что официант неожиданно зевнул и проснулся.
— У вас что, принято каждое утро так тонко подшучивать над посетителями? — поинтересовался Валантэн. — Не кажется ли вам, что шутка с подменой сахара солью несколько устарела?
Официант, когда ему стала понятна ирония, заикаясь заверил его, что ни у кого не было намерения делать это специально и что произошла просто нелепая ошибка. Он поднял сахарницу, посмотрел на нее, поднял солонку и так же внимательно повертел ее перед глазами. Удивленное выражение на его лице проступало все отчетливее. Наконец он, коротко извинившись, убежал и вернулся через несколько секунд с хозяином ресторана. Тот тоже осмотрел сначала сахарницу, потом солонку и тоже пришел в удивление.
И вдруг официанта осенило.
— Так это, наверное, — захлебываясь, затараторил он, — это, наверное, те двое священников.
— Какие двое священников?
— Ну, те двое, которые плеснули супом в стену.
— Плеснули супом в стену? — удивленно повторил Валантэн, посчитав, что это, должно быть, какая-то необычная итальянская метафора.
— Да, да! — возбужденно воскликнул служитель и указал на темное пятно на белых обоях. — Вон туда на стену плеснули.
Тогда Валантэн перевел вопросительный взгляд на хозяина, и тот пришел на помощь с более подробным рассказом.
— Да, сэр, — сказал он. — Совершенно верно, хотя я не думаю, что это имеет какое-то отношение к сахару и соли. Двое священников сегодня утром, очень рано, как только мы открыли ставни, зашли и заказали бульон. Оба выглядели вполне приличными, спокойными людьми. Потом один расплатился и ушел, а второй (он сразу показался мне копушей) задержался еще на пару минут, вещи свои собирал. Потом и он ушел, только, перед тем как выйти, буквально за секунду до того, как выйти на улицу, взял свою чашку, наполовину полную, и выплеснул ее содержимое на стену. Я тогда был в задней комнате, официант тоже, и, когда мы выбежали, в зале уже никого не было, только вот это пятно красовалось на стене. Особого вреда тут нет, но это было проделано настолько нагло, что я выбежал на улицу, чтобы догнать этих людей, но они оказались уже слишком далеко. Я только успел заметить, что они свернули за угол на Карстарс-стрит.
Сыщик вскочил, надел шляпу и взял трость. Он уже давно решил, что в бездонной тьме неведения ему должно следовать в направлении, обозначенном первым же указующим перстом, каким бы необычным он ни выглядел. Этот перст казался достаточно необычным. Заплатив по счету и хлопнув стеклянной дверью, вскоре он уже заворачивал за угол на Карстарс-стрит.
К счастью, даже в такие волнительные минуты он не терял бдительности. Когда он торопливо прошел мимо одной из лавок, что-то привлекло его внимание и заставило вернуться. Оказалось, это была лавка торговца фруктами. На открытом прилавке тесными рядами были аккуратно расставлены ящики с разнообразными товарами, каждый из которых снабжен табличкой с названием и ценой. В двух, самых больших, возвышались две горки, одна из апельсинов, другая из орехов. На горке орехов лежала картонная карточка, на которой синим мелом было жирно написано: «Свежайшие апельсины, 2 шт. — пенни». На горке апельсинов красовалось такое же совершенно четкое и однозначное описание: «Лучшие бразильские орехи, 1 унц. — 6 пенсов». Месье Валантэн посмотрел на эти ценники и почувствовал, что уже сталкивался с таким утонченным чувством юмора, и не так давно. Он указал на эту неточность краснощекому продавцу за прилавком, который угрюмо посматривал по сторонам. Торговец ничего не сказал, но резким движением поменял местами карточки. Сыщик, элегантно опираясь на трость, продолжил осмотр прилавка. Наконец он сказал:
— Прошу прощения за то, что отвлекаю вас, сэр, но я бы хотел задать вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциативности мышления.
Краснощекий зеленщик смерил его взглядом, не предвещавшим приятной беседы. Но Валантэн, покручивая тростью, продолжил самым жизнерадостным тоном.
— Каким образом, — спросил он, — два ошибочно расположенных ценника на прилавке торговца фруктами напоминают нам о священнике, приехавшем по делам в Лондон? Или, еслия выражаюсь недостаточно понятно, что за мистическая ассоциация связывает идею об орехах, обозначенных как апельсины, с идеей о двух священнослужителях, один из которых высокий, а второй низкий?
Тут глаза торговца полезли из орбит, как у улитки, на секунду показалось, что он бросится на незнакомца. Наконец, едва сдерживая ярость, он заговорил:
— Не знаю я, какое вам до этого дело, но если вы их знаете, можете им от меня передать, что я им их тупые башки поотбиваю, если они еще раз перевернут мои яблоки. И мне все равно, попы они или не попы!
— О! — голосом, полным сочувствия, воскликнул сыщик. — Они в самом деле перевернули ваши яблоки?
— Один из них, — продолжал горячиться продавец. — По всей улице раскатились! Я бы поймал этого болвана, так яблоки собрать надо было.
— А куда пошли эти попы?
— Вон по той второй дороге по левую руку вверх, а потом через площадь, — быстро ответил краснощекий.
— Спасибо, — бросил Валантэн и растворился в воздухе, будто фея. На дальней стороне следующей площади он увидел полицейского и подбежал к нему. — Это срочно, констебль, вы не видели двух священников в широкополых шляпах?
Полицейский тихо засмеялся:
— Как же не видел? Видел, сэр, и мне сдалось, что один из них пьяный был. Он остановился прямо посреди дороги и с таким удивленным видом...
— Куда они пошли? — не дал ему договорить Валантэн.
— Вон там сели на один из тех желтых омнибусов, — ответил постовой. — До Хампстеда.
Валантэн показал ему свое удостоверение и скороговоркой выпалил:
— Я за ними. Найдите двух человек, мне нужна помощь, — и помчался через дорогу так целеустремленно, что дюжий полицейский без лишних вопросов послушно бросился исполнять поручение. Через полторы минуты французского сыщика на противоположном тротуаре нагнали инспектор и какой-то человек в штатском.
— Итак, сэр, — спросил инспектор, деловой улыбкой давая понять, что осознает всю важность ситуации, — чем мы можем?..
Валантэн выбросил вперед трость.
— В омнибус! Все расскажу на империале, — выкрикнул он и метнулся к стоянке, ловко лавируя между потоками карет и машин. Когда все трое, тяжело дыша, заняли места на втором этаже желтого омнибуса, инспектор сказал:
— На такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.
— Верно, — спокойно ответил их предводитель, — если знать, куда ехать.
— Так куда же мы едем? — не без удивления поинтересовался его помощник.
Нахмурившись, Валантэн сделал несколько долгих затяжек, потом вынул изо рта сигарету и сказал:
— Если знаешь, что у человека на уме, иди на шаг впереди него, но если хочешь угадать, что у него на уме, держись за ним. Он сбивается с пути — и ты сбивайся с пути, он останавливается — и ты останавливайся, он идет медленно — и ты иди медленно. Это даст возможность увидеть то же, что видел он, и действовать так же, как действовал он. Все, что мы сейчас можем, — это смотреть в оба и попытаться не пропустить что-нибудь необычное.
— На что же нам смотреть? — поинтересовался инспектор.
— На все, — ответил Валантэн и снова погрузился в сосредоточенное молчание. Стало ясно, что дальнейшие расспросы не имеют смысла.
Омнибус медленно полз по улицам северного района, как казалось преследователям, уже много часов. Великий детектив дальнейших объяснений не давал, и его спутники, возможно, почувствовали неосознанное и все возрастающее сомнение в правильности своего решения прийти ему на помощь. Возможно, также они почувствовали и неосознанное и все возрастающее чувство голода, поскольку время обеда уже давно прошло, а бесконечные дороги северных лондонских предместий все увеличивались и увеличивались в длину, словно какой-то гигантский телескоп. Это была одна из тех поездок, когда путешественника не покидает мысль, что он вот-вот доберется до края белого света, пока не обнаруживает, что всего лишь въезжает в Тафнелл-парк. Лондон с его грязными тавернами и унылыми кустами остался позади, потом каким-то невообразимым образом снова показался впереди, на этот раз в виде оживленных широких улиц и кичливых гостиниц. Это напоминало путешествие по тринадцати разным городам и городишкам, расположившимся рядом друг с другом. Хмурые зимние сумерки уже начали сгущаться над дорогой, но парижский сыщик сидел по-прежнему молча и сосредоточенно рассматривал проплывающие по обеим сторонам фасады домов. К тому времени, когда они выехали из Камден-тауна, полицейские уже почти заснули, по крайней мере, они резко встрепенулись, когда Валантэн неожиданно вскочил, схватился за плечи обоих спутников и закричал, чтобы кучер остановился.
Они скатились по ступенькам, не имея понятия, зачем их заставили выходить, и, когда повернулись за объяснениями к Валантэну, увидели, что тот торжествующе указывает пальцем на окно в доме на левой стороне дороги, большое окно, которое являлось частью роскошного с позолотой фасада гостиницы. Эта часть здания, украшенная вывеской «Ресторан», предназначалась для обедов респектабельной публики. Окно с матовым узорчатым стеклом, как и у всех остальных окон фасада, выделялось лишь одним: прямо посередине на нем зияла большая черная дыра, напоминающая лунку во льду.
— Вот он, наш ключ, наконец-то! — воскликнул Валантэн, размахивая тростью. — Дом с разбитым окном.
— Какое окно? Какой ключ? — растерянно переспросил его главный помощник. — С чего вы взяли, что это может иметь к ним какое-то отношение? Вы можете это доказать?
Валантэн в сердцах чуть не сломал бамбуковую трость.
— Доказать? — вскричал он. — Черт побери, ему нужны доказательства! Ну разумеется, шансы двадцать против одного, что это не имеет к ним никакого отношения. Но что мне остается сделать? Неужели вы не понимаете, что мы можем либо ухватиться за этот шанс, либо ехать по домам спать?
С этими словами он решительно направился в ресторан. Его спутники последовали за ним, и вскоре они уже сидели за небольшим столиком, поглощали поздний обед и рассматривали отверстие в стекле с другой стороны. Впрочем, ясности от этого не прибавилось.
— У вас, я вижу, окно разбито, — сказал Валантэн официанту, расплачиваясь.
— Да, сэр, — ответил тот, склонился над столом и принялся усердно пересчитывать мелочь. Когда Валантэн молча положил перед ним солидные чаевые, официант не сильно, но заметно оживился. — Да, сэр, — распрямившись, добавил он. — Очень странная история, сэр.
— Да? А что произошло? — как будто из праздного любопытства поинтересовался сыщик.
— Вошли два господина в черных одеждах, — пояснил официант. — Ну, из тех священников заграничных, которых сейчас полно в городе. Перекусили. Потом один из них расплатился и ушел. Второй как раз тоже направился к выходу, когда я еще раз посмотрел на деньги и обнаружил, что он заплатил в три раза больше, чем следовало. «Постойте, — говорю я тогда этому парню, он уже почти за дверь вышел. — Вы заплатили слишком много». — «В самом деле?» — говорит он спокойно так. «Да», — говорю и беру чек, чтобы показать ему, гляжу на него и ничего не понимаю.
— Что вы имеете в виду?
— Я готов хоть на семи Библиях поклясться, что на счете я писал «4 пенс.», а теперь там совершенно четко было «14 пенс.»!
— Надо же! — негромко воскликнул Валантэн, но глаза его пылали. — И что потом?
— Священник у двери и глазом не моргнул. «Прошу прощения, что спутал ваши счета, — говорит, — но пусть это будет платой за окно». Я ему: «Какое окно?» А он мне: «Которое я сейчас разобью». Берет зонтик и пробивает в стекле эту дырку.
Все трое полицейских изумленно воскликнули, а инспектор тихо произнес: «Мы что, за сумасшедшими гонимся?» Официант, похоже, довольный произведенным эффектом, продолжил удивительный рассказ.
— Меня это так удивило, что на несколько секунд я замер как вкопанный, просто не мог сдвинуться с места. Священник преспокойно вышел, присоединился к своему другу, вместе они свернули за угол и там так припустили на Баллок-стрит, что я, хоть и собирался, ни за что бы их не догнал!
— Баллок-стрит! — вскричал сыщик и устремился на эту улицу, должно быть, с не меньшей скоростью, чем странная пара, которую он преследовал.
Погоня продолжалась. Теперь преследователи шли между голых кирпичных стен, по похожим на туннели мрачным пустынным улицам; улицам, на которых почти не было не только фонарей, но даже и окон; бесконечно долгим улицам, которые, видимо, состояли сплошь из тыльных сторон самых разнообразныхзданий, собранных со всего города. Смеркалось, и даже лондонские полицейские уже с трудом понимали, в каком точно направлении шагают. Инспектор все же был почти уверен, что они должны были выйти на какую-то часть Хампстед-хита. Неожиданно фиолетовые сумерки прорезал свет освещенной газовым фонарем круглой выпуклой витрины, похожей на большой иллюминатор. Оказалось, это кондитерская. Валантэн остановился, постоял пару секунд и вошел в магазин. Походив с серьезным видом между празднично-яркими витринами с пестрым товаром, он тщательно выбрал тринадцать шоколадных трубочек и медленно направился к прилавку. Сыщик явно подыскивал повод завязать разговор, но оказалось, это было излишне.
Нескладную неопределенного возраста продавщицу элегантный француз заинтересовал не больше любого другого покупателя. Лишь профессиональное любопытство заставило ее окинуть его беглым взглядом. Однако, когда в дверях появился инспектор в синей форме, сонная пелена с ее глаз спала.
— Если вы по поводу того пакета, — сказала она, — так я его уже отослала.
— Пакета? — повторил Валантэн, теперь настала его очередь проявить любопытство.
— Ну, того пакета, который оставил джентльмен... Джентльмен-священник.
— Ради всего святого, — весь подавшись вперед, воскликнул Валантэн, впервые проявляя настоящее волнение, — ради всего святого, расскажите подробно, что произошло.
— Ну так... — неуверенно начала женщина. — Зашли ко мне два священника, где-то с полчаса назад, купили мятных леденцов, поговорили немного... Ну а потом вышли и пошли в сторону Хита, но через секунду один из них снова забегает ко мне и говорит, забыл я, мол, тут пакет. Ну, я посмотрела кругом, никакого пакета не нашла. Он тогда и говорит: «Ничего страшного, но если найдется, пошлите его, пожалуйста, по такому-то адресу». Называет мне адрес и дает шиллинг за хлопоты. А потом я, хоть и думала, что везде смотрела, нашла-таки его пакет, в коричневую бумагу завернутый, ну и послала по тому адресу, что он оставил. Адреса я сейчас не вспомню, но где-то в Вестминстере. Дело-то вроде как важное, вот я и подумала, что за ним полиция пришла.
— Пришла, — коротко согласился Валантэн. — Хампстед-хит далеко отсюда?
— Прямо по улице — пятнадцать минут, — сказала женщина, — и выйдете прямиком в парк.
Валантэн выскочил из магазина и побежал. Его спутники неохотно припустили трусцой следом за ним.
Улица, по которой они бежали, была узкой и зажатой тенями, поэтому, неожиданно оказавшись под открытым бескрайним небом, они с удивлением обнаружили, что вечер был еще достаточно светлым и чистым. Идеальный сине-зеленый, как павлинье перо, купол опускался, отсвечивая позолотой, в темнеющие деревья и чернильные дали. Прозрачные зеленые сумерки сгустились как раз настолько, что позволяли заметить на небе кристаллики первых звезд. Последние остатки дневного света собрались в золотистое свечение по краю Хампстеда и в той популярной среди лондонцев низине, которая зовется Юдолью здоровья. Отдыхающие, которых всегда полно в этом месте, еще не все разошлись; несколько пар все еще темнели на скамейках бесформенными очертаниями, с далеких невидимых каруселей доносились радостные крики девушек. Величие небес сгущалось в сумерки и окутывало тьмой надменную человеческую пошлость. Стоя на краю склона и окидывая взглядом долину, Валантэн узрел то, что искал.
В этой бескрайней дали среди черных расстающихся пар была одна, особенно черная, которая не расставалась... Пара в церковных одеждах. Хоть они и казались не больше муравья, Валантэн сумел рассмотреть, что один из них был значительно ниже другого. Несмотря на то что второй сутулился, как ученый человек, проведший жизнь за книгами, и поведение его совершенно ничем не привлекало к себе внимания, сыщик определил, что рост его значительно выше шести футов. Сжав челюсти, Валантэн двинулся вперед, нетерпеливо покручивая трость. Когда расстояние между ними заметно сократилось и черные фигуры увеличились, будто в огромном микроскопе, он увидел нечто такое, что удивило его, хотя и не оказалось для него полной неожиданностью. Кем бы ни был высокий священник, насчет личности низкого у него не осталось ни малейшего сомнения. Это был его попутчик по хариджскому поезду, неуклюжий маленький кюре из Эссекса, которому он советовал не распространяться о содержимом его коричневых бумажных пакетов.
Итак, наконец-то все сложилось в более-менее понятную картину. Утром, когда Валантэн наводил справки, он узнал, что некий отец Браун из Эссекса везет на конгресс серебряный крест с сапфирами, очень ценную реликвию, чтобы показать его кому-то из заграничных коллег. Несомненно, это и есть то «что-то из чистого серебра с голубыми камнями», а отец Браун — это, несомненно, и есть маленький наивный разиня, который ехал с ним в одном вагоне. Нет ничего удивительного в том, что то, что узнал Валантэн, сумел узнать и Фламбо. Фламбо узнал все. К тому же стоит ли удивляться, что Фламбо, проведав о сапфировом кресте, решил похитить его; это так же естественно, как сама естественная история. И уж точно нечего сомневаться, что Фламбо запросто обведет вокруг пальца такую овцу, как человек с зонтом и бумажными свертками. Он из тех людей, кого кто угодно может увести за собой на веревке хоть на Северный полюс. Такому актеру, как Фламбо, ничего не стоило, переодевшись священником, заманить его в Хампстед-хит. Пока что преступный замысел был как будто понятен, и если священник своей беспомощностью вызвал у Валантэна лишь жалость, то к Фламбо, который опустился до обмана такой доверчивой жертвы, сыщик теперь испытывал чуть ли не презрение. Однако, когда Валантэн подумал обо всем, что случилось за этот день, обо всем, что привело его к триумфу, он понял, что ему еще предстоит поломать голову, дабы понять, что все это значит и какой в этом смысл. Зачем для похищения серебряного с сапфирами креста понадобилось выливать бульон на стену в ресторане? Какой был смысл называть орехи апельсинами или сначала платить за окна, а потом разбивать их? Поиски-то он довел до конца, но каким-то образом пропустил середину. Когда ему случалось попасть впросак (что происходило достаточно редко), это обычно означало, что он имел в руках улики, указывающие на преступника, но самого преступника упускал. Сейчас же он был готов схватить преступника, но улик так до сих пор и не получил.
Фигуры, которые они преследовали, ползли, как две черные мухи по огромному зеленому склону холма. Они явно были погружены в разговор и, возможно, не задумывались о том, куда их несут ноги, но ноги их несли на холмы Хита, где людей не было и было намного тише. Преследователям, следующим за ними по пятам, пришлось как каким-нибудь охотникам на оленей прятаться за деревьями, припадать к земле за кустами и даже ползать в высокой траве. Столь неудобный способ передвижения тем не менее позволил охотникам приблизиться к дичи настолько близко, что они смогли услышать тихое журчание беседы, однако слов было не разобрать, точно слышалось лишь одно слово — «разум», которое снова и снова повторялось высоким, почти детским голосом. Один раз на краю обрыва, среди густых и беспорядочных зарослей сыщики потеряли из виду две темные фигуры. Следующие десять минут прошли в агонии поисков, но когда их следы снова были найдены, они вывели их к подножию огромного холма, который нависал над залитым светом заходящего солнца пустынным естественным амфитеатром. В этом величественном, но заброшенном месте под деревом стояла старенькая покосившаяся скамеечка. На нее и опустились двое увлеченных серьезным разговором священников. Темнеющий горизонт все еще восхитительно отливал зеленью и золотом, но небесный купол теперь все больше утрачивал павлинью зелень и все больше набирался павлиньей синевы, а звезды все больше и больше походили на сверкающие бриллианты. Молча делая руками знаки своим помощникам, Валантэн каким-то образом исхитрился подползти к большому ветвистому дереву. Заняв позицию за его стволом, затаив дыхание, он прислушался и впервые смог разобрать разговор странных священников.
После полутора минут подслушивания его охватило жуткое сомнение. Может статься, что он затащил двух английских полицейских на просторы ночного парка ради затеи, в которой смысла было не больше, чем в поисках фиг на ветках чертополоха, заросли которого темнели не так далеко. Дело в том, что священники разговаривали так, как и полагается священникам: благочестиво, учено и степенно, обсуждали они самые бесплотные загадки богословия. Маленький эссекский священник говорил просто и спокойно, подняв круглое лицо к разгорающимся звездам, его спутник отвечал, склонив голову, словно был недостоин на них смотреть. Но более богословской беседы нельзя было услышать ни в белой итальянской церкви, ни в черном испанском соборе.
Первое, что он услышал, было окончанием предложения отца Брауна, которое звучало так:
— ...Что они на самом деле имели в виду в Средние века, говоря о непорочности высших сил.
Высокий священник кивнул склоненной головой и сказал:
— Да, эти современные язычники обращаются к их разуму, но разве может кто-то смотреть на эти миллионы вселенных и не чувствовать, что там наверху могут существовать и такие удивительные миры, в которых разум совершенно неразумен?
— Нет, — ответил другой священник, — разум всегда разумен, даже в самых дальних закоулках лимба и на затерянных границах материального мира. Я знаю, люди ставят в укор церкви, что она якобы преуменьшает значение разума, но на самом деле все обстоит как раз наоборот. На земле лишь церковь ставит разум превыше всего остального. На земле лишь церковь утверждает, что сам Бог ограничен рамками разума.
Его собеседник поднял строгое лицо к звездному небу и произнес:
— Но, кто знает, быть может, в этой безграничной Вселенной...
— Безграничной только физически! — с большим чувством возразил маленький священник, резко повернувшись к собеседнику. — Не безграничной в смысле отхода от законовистины.
За деревом Валантэн в молчаливой ярости впился ногтями в кору ствола. Ему уже слышались смешки английских сыщиков, которых он, доверившись своему чутью, завел так далеко только ради того, чтобы послушать метафизические рассуждения двух тихих служителей церкви. В нетерпении он прослушал не менее вдохновенный ответ высокого священника, а когда снова начал прислушиваться, опять говорил отец Браун:
— Разум и справедливость царят и на самой дальней и одинокой звезде. Взгляните на эти звезды. Разве они не похожи на алмазы и сапфиры? Вы можете представить любые, хоть самые безумные ботанические или геологические формы. Каменные леса с бриллиантовыми листьями, луну в виде циклопических размеров сапфира, но не думайте, что подобная безумная астрономия может иметь хотя бы малейшее значение для разума и чувства справедливости. На опаловых равнинах, под утесами из жемчуга на доске объявлений все равно будет начертано: «Не укради».
Валантэн, сраженный первой по-настоящему большой глупостью, совершенной в своей жизни, как раз поднимался, чтобы какможно незаметнее и быстрее удалиться, но что-то в молчании высокого священника заставило его остановиться, чтобы дождаться его ответа. Когда тот наконец заговорил, голова его была низко наклонена, руки лежали на коленях. Он просто произнес:
— Что ж, возможно, иные миры выше нашего разума. Загадка небес непостижима, и я могу лишь склонить перед ней голову. — А потом, все так же не поднимая головы и не меняя интонации, он добавил: — Просто отдайте мне сапфировый крест. Здесь мы совершенно одни, и я могу разорвать вас на куски,как соломенную куклу.
Совершенно неизменившийся голос и полное спокойствие заставили эти неожиданные слова прозвучать особенно зловеще. Но маленький хранитель реликвии всего лишь повернул голову на какую-то долю градуса. Его простодушное лицо было все так же обращено к звездам. Возможно, он просто не понял. Или понял и окаменел от страха.
— Да, — сказал высокий священник все тем же тихим голосом и не шевелясь, — да, я — Фламбо. — Потом, немного помолчав, произнес: — Так что, отдадите крест?
— Нет, — односложный ответ прозвучал как-то странно.
Совершенно неожиданно Фламбо сбросил с себя маску скромного служителя церкви. Великий грабитель запрокинул голову и захохотал. Смеялся он негромко, но долго.
— Нет! — воскликнул он. — Вы, горделивый прелат, не отдадите мне его. Вы, мелкий простофиля в сутане, мне его не отдадите. А сказать вам почему? Потому что он уже лежит у меня за пазухой.
Человечек повернул к нему показавшееся в сумерках застывшим лицо и неуверенным голосом «личного секретаря», робеющего перед грозным шефом, произнес:
— Вы... уверены в этом?
Фламбо взвыл от удовольствия:
— Честное слово, вы — интереснейший человек! Наблюдать за вами — одно удовольствие, все равно что смотреть трехактный фарс, — голосил он. — Да, болван вы эдакий, я в этом совершенно уверен. Мне хватило ума приготовить фальшивку, и теперь, друг мой, у вас — подделка, а у меня настоящий крест. Это старый трюк, отец Браун... Очень старый.
— Да-да, — промямлил отец Браун и с трудноопределимым выражением лица пригладил рукой волосы. — Да, я слышал о нем.
Гений преступного мира с неожиданным любопытством чуть подался вперед и пристально всмотрелся в маленького деревенского священника.
— Слышали? — спросил он. — От кого?
— Я не имею права назвать вам его имя, — бесхитростно сказал человечек. — Тайна исповеди, понимаете. Но этот человек двадцать лет жил в полном достатке, зарабатывая подделыванием бумажных свертков и пакетов. И, видите ли, когда я начал подозревать вас, мне сразу вспомнился этот несчастный.
— Начали меня подозревать? — повторил законопреступник, и в его голосе послышались напряженные нотки. — Неужто вам хватило сообразительности что-то заподозрить, когда я завел вас в это пустынное место?
— Нет-нет, — извиняющимся тоном заверил его Браун. — Видите ли, я начал подозревать вас, как только мы встретились. Все дело в небольшой выпуклости на рукаве, там, где вы носите браслет на шипах.
— Дьявол! — вскричал Фламбо. — Откуда вам известно про браслеты на шипах?
— От паствы! — простодушно ответил отец Браун и несколько удивленно приподнял брови. — Когда я служил куратором в Хартлпуле, у меня было трое прихожан, которые носили такие приспособления. Поэтому конечно же, когда у меня с самого начала возникли подозрения, я сделал все, чтобы с крестом ничего не случилось. Извините, но боюсь, что я наблюдал за вами. Поэтому, когда вы наконец подменили пакет, я это заметил и подменил его снова. Потом правильный пакет я отправил в надежное место.
— В надежное место? — повторил Фламбо, и в голосе его впервые не было слышно ликования.
— Вот что я сделал, — все так же невозмутимо продолжал маленький священник. — Я вернулся в ту кондитерскую, сказал, что забыл там пакет, и оставил адрес, куда его отослать, если он сыщется. Я-то знал, что на самом деле ничего там не забывал, но, перед тем как уйти, я специально оставил его, чтобы за мной не мчались с этим ценным предметом, а отослали его моему другу в Вестминстер. — Потом, сокрушенно вздохнув, он добавил: — Этому я тоже научился у того несчастного в Хартлпуле. Он так делал с сумками, которые воровал на вокзалах. Но сейчас он в монастыре. Понимаете, я же священник, я не могу иначе, — добавил он и виновато потер лоб. — Люди рассказывают мне разные вещи.
Фламбо выхватил из внутреннего кармана завернутый в коричневую бумагу пакет и изорвал его в клочья. Внутри не оказалось ничего, кроме бумаги и пары свинцовых слитков. Он вскочил и возвысился над маленьким священником во весь свой огромный рост.
— Я не верю вам! — завопил он. — Не верю я, что такой неотесанный тюфяк мог такое провернуть! Нет, я думаю, эта штука все еще у вас и, если вы мне ее не отдадите... Черт побери, вокруг никого нет! Если не отдадите — я заберу его силой!
— Нет, — просто произнес отец Браун и тоже встал. — Вы не заберете его силой. Во-первых, потому что у меня его уже на самом деле нет. И, во-вторых, потому что мы не одни.
Фламбо, который уже двинулся на священника, замер.
— За этим деревом, — указал отец Браун, — двое сильных полицейских и величайший в мире сыщик. Как они сюда попали, спросите вы? Разумеется, это я их сюда привел. Каким образом? Если хотите, могу рассказать. Благослови Господи, работая с преступниками, волей-неволей приходится узнавать такие вещи! Понимаете, я не был полностью уверен, что вы — вор, и меньше всего мне хотелось поднимать шум вокруг ни в чем не повинного служителя церкви. Поэтому я просто устроил вам проверку: вдруг бы вы себя чем-то выдали? Человек, как правило, возмущается и устраивает небольшую сцену, если вместо сахара в его кофе оказывается соль. Если этого не происходит, следовательно, у него есть причины не привлекать к себе внимания. Я подменил сахар солью, но вы не стали поднимать шум. Человек, как правило, возражает, когда ему дают тройной счет, и, если он его оплачивает, это говорит о том, что у него есть повод вести себя так, чтобы на него никто не обращал внимания. Я изменил ваш счет, и вы его оплатили.
Казалось, мир вокруг двух облаченных в сутаны мужчин замер в ожидании тигриного прыжка Фламбо, но он стоял, словно околдованный, и молча, с глубочайшим интересом внимал словам отца Брауна.
— Поэтому, — продолжал маленький сельский священник, — поскольку вы следов полиции не оставляли, кто-то же должен был это делать. Во всех местах, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, из-за чего нас потом вспоминали бы там весь день. Большоговреда я не принес — так, пятно на стене, рассыпанные яблоки, разбитое окно, — но крест был спасен, поскольку святой крест всегда будет спасен. Сейчас он уже в Вестминстере. Я, признаться, даже удивлен, что вы не додумались до ослиного свистка.
— Что-что? — не понял Фламбо.
— О, как хорошо, вы не знаете, что это такое! — обрадовался священник. — Это — плохая штука. Я уверен, вы — слишком порядочный человек для свистуна. Против свистка я был бы бессилен, даже если бы сам пустил в ход кляксы, — у меня слишком слабые ноги.
— Что вы несете? — воскликнул его собеседник.
— Я думал, уж про кляксы-то вы знаете! — приятно удивился отец Браун. — Значит, вы еще не совсем испорчены.
— А сами-то вы, черт подери, откуда знаете про всю эту гадость? — вскричал Фламбо.
Тень улыбки скользнула по круглому простоватому лицу церковника.
— Наверное, потому, что я — простофиля в сутане, — сказал он. — Неужели вам никогда не приходило в голову, что человек, который почти только тем и занят, что выслушивает рассказы людей о своих грехах, должен прекрасно представлять себе зло, на которое способен человек? Но, если честно, не только это помогло мне убедиться, что вы — не настоящий священник.
— А что еще? — обреченно спросил вор.
— Ваши нападки на разум, — сказал отец Браун. — Так себя вести не стал бы ни один богослов.
И, когда он повернулся, чтобы собрать свои пакеты, из-за погруженных во тьму деревьев вышли трое полицейских. Фламбо был натурой артистичной и знал правила игры. Сделав шаг назад, он приветствовал Валантэна глубоким поклоном.
— Не кланяйтесь мне, mon ami3, — любезно сказал Валантэн. — Давайте вместе поклонимся тому, кто этого заслуживает.
И оба склонили головы перед маленьким деревенским священником из Эссекса, который в темноте шарил рукой по скамейке в поисках зонтика.
2 Тупик (фр.).
3 Друг мой (фр.).
Неверный контур
Некоторые большие дороги, идущие на север от Лондона, тянутся далеко за город как истощенные и разреженные призраки улиц, с огромными пробелами в застройке, но сохраняя общую линию. Здесь можно видеть кучку лавок, за которой следует огороженное поле, потом известная таверна, потом огород или питомник, потом большой частный дом, потом новое поле и другая гостиница, и так далее. Если кто-нибудь решит прогуляться по одной из таких дорог, он увидит дом, который невольно привлечет его внимание, хотя он может затрудниться с объяснением причин. Это длинное, низкое здание, тянущееся параллельно дороге, выкрашенное в белый и бледно-зеленый цвет, с верандой, шторами на окнах и причудливыми куполами над подъездами, похожими на деревянные зонтики, какие можно видеть в некоторых старых домах. В сущности, это и есть старомодный дом, типично загородный и типично английский, в зажиточном стиле доброго старого Клэпема. Однако дом создает впечатление, будто он построен для жаркого климата. Глядя на белые стены и светлые шторы, наблюдатель смутно представляет тюрбаны и даже пальмы. Я не могу определить причину этого ощущения; вероятно, дом был построен англичанином, долго прожившим в Индии.
Как я уже говорил, любой, кто проходит мимо этого дома, испытывает непонятный интерес к нему и думает, что здешние стены могут поведать некую историю. Так оно и есть, о чем вы вскоре узнаете. Это история о странных событиях, которые действительно произошли в этом доме на Троицу 18... года.
Любой, кто прошел бы мимо дома во вторник перед троицыным днем примерно в половине пятого пополудни, увидел бы открытую входную дверь и отца Брауна из маленькой церкви Св. Мунго, вышедшего покурить большую трубку за компанию со своим высоченным другом, французом Фламбо, который курил крошечную сигарету. Эти двое могут не представлять интереса для читателя, но дело в том, что за открытой дверью бело-зеленого дома таилось немало замечательных вещей, о которых следует рассказать для того, чтобы читатель мог не только разобраться в трагической истории, но и представить сцену трагедии.
В плане дом напоминал букву Т с очень длинной перекладиной и короткой ножкой. Перекладина образовывала двухэтажный фасад, выходивший на улицу, с парадным крыльцом посредине; здесь располагались почти все жилые комнаты. Короткая одноэтажная пристройка располагалась напротив парадного входа и состояла из двух длинных смежных комнат. В первой находился кабинет, где знаменитый мистер Квинтон писал свои бурные восточные стихи и романы. Дальняя комната представляла собой застекленную оранжерею, или зимний сад, полный тропических растений совершенно неповторимой и иногда чудовищной красоты. В такие вечера, как этот, оранжерея купалась в щедрых солнечных лучах. Когда входная дверь была открыта, многие прохожие буквально замирали на ходу и ахали от восхищения, потому что перспектива словно переходила от богатых апартаментов в сцену из волшебной сказки: пурпурные облака, золотые солнца и алые звезды казались паляще-яркими и вместе с тем далекими и полупрозрачными.
Поэт Леонард Квинтон самым тщательным образом лично устроил этот эффект, и сомнительно, удалось ли ему так замечательно выразить свою душу в любом из его стихотворений. Он упивался цветом, купался в цвете и удовлетворял свою страсть к цвету вплоть до пренебрежения формой — даже совершенной формой. Поэтому он безраздельно посвятил свой творческий дар восточному искусству и образам Востока. Он всецело отдался радостному хаосу красок, где прихотливые узоры ковров и ослепительные вышивки ничего не олицетворяют и ничему не учат. Он попытался — без особого успеха, но с немалой выдумкой и изобретательностью — сочинять поэмы и любовные романы, отражающие яростное и даже жестокое буйство оттенков. Он писал о тропических небесах из пылающего золота и кроваво-красной меди, о восточных героях в многоярусных тюрбанах, скачущих на фиолетовых или изумрудно-зеленых слонах, о гигантских самоцветах, которые не под силу унести сотне негров, мерцающих древним и загадочным огнем.
Иными словами, он увлекался восточными небесами, гораздо худшими, чем большинство западных преисподних, восточными монархами, которых многие из нас назвали бы маньяками, и восточными самоцветами, которые ювелир с Бонд-стрит (даже если бы толпа изнемогающих негров притащила такой самоцвет в его лавку) счел бы фальшивкой. Квинтон был гением, пусть и несколько болезненного рода, но даже его болезненность больше проявлялась в жизни, чем в его сочинениях. По характеру он был слабым и раздражительным, а его здоровье сильно пострадало от восточных экспериментов с опиумом. Его жена — очаровательная, трудолюбивая и, по правде говоря, переутомленная женщина — возражала против опиума, но гораздо больше ей не нравился индусский отшельник в бело-желтом одеянии, которого ее муж принимал у себя несколько месяцев подряд и называл Вергилием, направляющим его дух через небеса и преисподние загадочного Востока.
Отец Браун и его друг вышли на крыльцо из этой поэтической обители и, судя по выражению их лиц, испытали немалое облегчение. Фламбо знал Квинтона по бурным студенческим денькам в Париже. Теперь они возобновили знакомство, но даже без учета недавнего приобщения Фламбо к более ответственному образу жизни теперь ему никак не удавалось поладить с поэтом. Перспектива давиться опиумом и писать эротические четверостишия на веленевой бумаге не соответствовала его представлению о том, как джентльмен должен отправляться к дьяволу.
Друзья задержались на крыльце перед прогулкой по саду, но тут садовая калитка распахнулась и какой-то юноша в заломленном котелке и роскошном красном галстуке нетерпеливо зашагал к дому. Это был молодой человек довольно беспутного вида; его галстук сбился набок, словно он спал в одежде, и он нервно вертел в руке маленькую бамбуковую трость.
— Послушайте, — сказал он, еще задыхаясь после быстрой ходьбы, — мне нужно видеть старину Квинтона. Я должен встретиться с ним. Он дома?
— Да, мистер Квинтон у себя, — ответил отец Браун, прочищавший трубку. — Но не знаю, сможете ли вы увидеться с ним. Сейчас он принимает врача.
Молодой человек, по-видимому не вполне трезвый, ввалился в прихожую, но в тот же момент из кабинета Квинтона вышел доктор, натягивавший перчатки.
— Увидеться с мистером Квинтоном? — холодно произнес доктор. — Нет, боюсь, вы не можете этого сделать. Его сейчас никому нельзя беспокоить; я только что дал ему снотворное.
— Но послушайте, старина, — забубнил юнец в красном галстуке, пытаясь ласково ухватить доктора за лацканы пиджака. — Послушайте, сейчас я просто напился вдрызг, но...
— Ничего не выйдет, мистер Аткинсон, — отрезал врач, заставив его отступить. — Когда вы сможете изменить действие лекарства, я изменю свое решение.
Нахлобучив шляпу, доктор вышел на солнце вместе с двумя друзьями. Это был добродушный коротышка с бычьей шеей и небольшими усами, совершенно обычный на вид, но создающий впечатление основательности и надежности.
Молодой человек в котелке, судя по всему, не обладавший иным талантом вести дела с людьми, кроме как хватать их за лацканы, стоял перед дверью и вертел головой, как будто его силой вышвырнули из дома. Он молча смотрел, как остальные вышли в сад.
— Небольшая порция лжи во спасение, — со смехом заметил доктор. — На самом деле бедный Квинтон должен принять снотворное примерно через полчаса. Но я не хочу отдавать его на растерзание этому упрямому скоту, которому нужно лишь занять денег, чтобы потом не отдавать. Он изрядный подлец, хотя и приходится братом миссис Квинтон, а это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю.
— Да, — согласился отец Браун. — Она хорошая женщина.
— Предлагаю прогуляться по саду, пока этот субъект не уйдет, а потом я зайду к Квинтону с лекарством, — продолжал доктор. — Аткинсон не сможет войти, потому что я запер дверь.
— В таком случае, доктор Хэррис, мы можем обойти дом со стороны оранжереи, — предложил Фламбо. — Там нет входа, но на это зрелище стоит посмотреть даже снаружи.
— Да, и я краешком глаза присмотрю за своим пациентом, — рассмеялся доктор. — Он предпочитает возлежать на кушетке в дальнем правом конце оранжереи, среди кроваво-красных орхидей, от которых у меня мурашки по коже. Но что вы делаете?
Последние слова были адресованы отцу Брауну, который на мгновение остановился и поднял из зарослей высокой травы диковинный кривой кинжал восточной работы, изящно инкрустированный самоцветами и металлическими вставками.
— Что это? — спросил священник, глядя на кинжал с некоторым неодобрением.
— Полагаю, один из ножей Квинтона, — беззаботно ответил доктор Хэррис. — У него дома полно китайских безделушек. А может быть, нож принадлежит кроткому индусу, которого он держит на привязи.
— Какому индусу? — поинтересовался отец Браун, все еще разглядывавший кинжал.
— Какому-то индусскому заклинателю, — добродушно ответил доктор. — Мошеннику, разумеется.
— Вы не верите в магию? — спросил отец Браун, не поднимая головы.
— Магия! — фыркнул доктор. — Не смешите меня!
— Он очень красивый, — тихим, мечтательным голосом произнес священник. — Цвета тоже замечательные, но форма неправильная.
— Для чего? — Фламбо удивленно воззрился на него.
— Для чего угодно. Это вообще неправильная форма. Разве у вас никогда не возникало такого чувства при виде произведений восточного искусства? Цвета завораживающе красивы, но формы дурные и уродливые, причем намеренно дурные и уродливые. Я видел зло в узоре турецкого ковра.
— Mon Dieu! — со смехом воскликнул Фламбо.
— Здесь есть буквы и символы на языке, который мне неизвестен, но я знаю, что они несут зло, — все тише продолжал священник. — Линии специально идут не туда — словно змеи, готовые к бегству.
— О чем, дьявол его побери, вы болтаете? — рассмеялся доктор.
Ему ответил спокойный голос Фламбо.
— Преподобный отец иногда напускает мистического туману, —